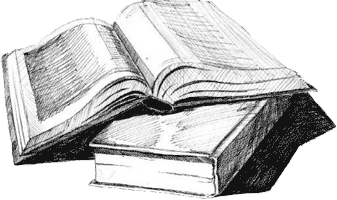 |
|
Популярные авторы:: Нортон Андрэ :: Азимов Айзек :: БСЭ :: Раззаков Федор :: Толстой Лев Николаевич :: Горький Максим :: Чехов Антон Павлович :: Борхес Хорхе Луис :: Сименон Жорж :: Лондон Джек Популярные книги:: The Boarding House :: Всё-всё-всё о Ёжике :: Проштемпелевано звездами :: Они не прилетят :: Субботний вечер :: Анализ чеченского кризиса :: Надсон и наше время :: Можно ли с этим мириться :: Амба :: Серебристые сумерки |
Религия. Война за Бога - А был ли Иисус? Неожиданная историческая правдаModernLib.Net / История / Барт Д. Эрман / А был ли Иисус? Неожиданная историческая правда - Чтение (Ознакомительный отрывок) (стр. 5)
Так обстоит дело и с Евангелиями. Богодухновенны они или нет, их можно рассматривать и использовать как исторические источники. Но что же можно сказать о них и их свидетельстве о жизни исторического Иисуса? Если согласиться, что Евангелия могут и должны быть использованы как исторические источники аналогично тому, как мы работаем с другими историческими источниками (с учетом субъективности авторов), становится понятным, почему практически все историки считают, что Иисус из Назарета действительно жил в Палестине в I веке и был распят префектом Иудеи. Дело не в слепом доверии евангельскому слову (как бывает у христианских фундаменталистов), а в целом ряде более тонких причин, известных специалистам. По причинам, о которых речь пойдет ниже, огульным скептикам не покажутся убедительными наши рассуждения, но надо же с чего-то начинать. Хорошо начать с имеющихся свидетельств, которые сохранились до наших дней. Мы уже говорили, что при выяснении историчности того или иного лица или события, историки во многом ориентируются на множественность независимых источников. Именно такими независимыми источниками являются Евангелия с их свидетельством об Иисусе. Древнейшее из Евангелий – это, видимо, Евангелие от Марка. Согласно выводам исследователей Нового Завета (как либеральных, так и консервативных), оно было написано около 70 года нашей эры. (Некоторые консервативные ученые дают более раннюю датировку, но лишь очень немногие либералы – гораздо более позднюю.) Далее мы остановимся на вопросе об источниках Марка, а пока ограничимся простым фактом: приблизительно через сорок лет после (предполагаемой) жизни Иисуса был создан пространный отчет о многих его словах и делах, а также о его смерти через распятие. (О том, до какой степени данный отчет исторически достоверен, мы скажем отдельно. Это совершенно отдельный вопрос.) Подавляющее большинство исследователей Нового Завета также считают, что Матфей и Лука знали Евангелие от Марка и активно использовали его при написании своих Евангелий. Эта гипотеза почти наверняка правильна: в ее пользу существуют многочисленные аргументы [48]. Как мы увидим в главе 7, некоторые мифологисты делают отсюда далеко идущие выводы: дескать, Евангелия от Матфея, Луки и даже Иоанна восходят к Марку, а значит, у нас есть лишь один источник по жизни Иисуса. Но это очень далеко от истины. Действительно, Матфей и Лука пользовались Марком, но значительные части их Евангелий никак не связаны с рассказами Марка и отражают обширные и независимые предания о жизни, учении и смерти Иисуса. Эти Евангелия, видимо, были написаны лет через десять-пятнадцать после Марка, так что к 80–85 годам существовали как минимум три независимых рассказа о жизни Иисуса (коль скоро целый ряд эпизодов у Матфея и Луки не восходит к Марку). А ведь едва минуло поколение со времени жизни Иисуса! Это еще не все. Есть и другие независимые Евангелия. Вспомним Евангелие от Иоанна, в котором подчас видят чуть ли не «чудачество»: столь сильно оно отличается от синоптических рассказов Матфея, Марка и Луки [49]. У Иоанна лишь повествование о Страстях содержит ряд пересечений с синоптиками, – большинство же более ранних эпизодов не имеют синоптических параллелей, а где имеют, все равно Иоанн подает события в особом ключе и черпая свои представления о них не из синоптиков [50]. Впрочем, и рассказ Иоанна о смерти Иисуса самобытен. Обычно считается, что Евангелие от Иоанна – самое позднее из канонических Евангелий и было написано в 90–95 годы н. э. Тогда получается, что к I веку относятся целых четыре независимых повествования о жизни и смерти Иисуса: Матфей и Лука независимы во многих отрывках, а Иоанн – в большинстве отрывков (возможно, во всех отрывках). Заметим также, что есть и более поздние Евангелия, причем независимые. Самый яркий пример – Евангелие от Фомы (сборник из 114 речений Иисуса). С момента его открытия (1947 г.) ученые спорят о его датировке [51]. Кое-кто даже датирует его I веком (более того, даже более ранним временем, чем все или некоторые канонические Евангелия), но все-таки более распространена гипотеза, что в своей нынешней форме текст был написан в начале II века (возможно, в 110-е годы). Также гипотеза о зависимости Фомы от Матфея, Марка и Луки в некоторых речениях (около половины высказываний в Фоме имеют параллели у синоптиков) менее популярна, чем версия о независимости Фомы: чаще думают, что Фома черпал информацию из каких-то других источников. Как бы то ни было, значительная часть Фомы не восходит к каноническим текстам, а значит, ее можно считать пятым независимым свидетельством о жизни и учении Иисуса. Аналогичным образом обстоит дело с Евангелием от Петра. Фрагмент из него, говорящий о суде над Иисусом, Страстях и Воскресении Иисуса, обнаружили в 1886 году [52]. Несмотря на определенное сходство с некоторыми отрывками в канонических Евангелиях, многие исследователи полагают, что данное произведение носит независимый характер и основано на неканонических источниках. Поныне не утихают споры относительно того, сколь обширный рассказ об Иисусе содержало это Евангелие, – сохранившийся фрагмент начинается на середине фразы и сцены с омовением рук Пилатом. (Эта сцена есть и у Матфея, но здесь она описана иначе и, видимо, с опорой на другой источник.) Некоторые исследователи полагают, что текст излагал лишь события Страстей, но более убедительная гипотеза гласит, что это было полновесное Евангелие, повествовавшее также и о служении Иисуса [53]. Как бы то ни было, поскольку оно во многом отличается от других Евангелий (и как минимум, в ряде отрывков, не зависит от них), перед нами шестое независимое евангельское свидетельство о жизни и смерти Иисуса. Еще один независимый отчет мы находим в так называемом папирусе Эджертона 2 [54]. Сложно сказать, сколь пространным было данное произведение: от него остался лишь маленький фрагмент с четырьмя эпизодами из жизни Иисуса, один из которых не имеет параллели ни в канонических, ни в неканонических Евангелиях [55]. Здесь как минимум в одном отрывке (а возможно, и во всех четырех) мы располагаем седьмым независимым свидетельством об Иисусе. Как известно, существует и множество других неканонических Евангелий, числом около сорока. Они продолжали создаваться вплоть до начала Средневековья. Среди них есть, в частности, рассказы о детстве Иисуса (Иисус творит чудеса – иногда на благо окружающим, иногда нет), о его проповеди, смерти и воскресении. Почти все они носят в высшей степени легендарный характер, и чем позднее их датировка, тем меньшую ценность они представляют в качестве источника по жизни Иисуса. Но если ограничиться, как мы и поступили, столетием после традиционной даты смерти Иисуса, у нас будут семь независимых рассказов, подчас весьма пространных. (Важно помнить: хотя между отдельными источниками есть взаимозависимость в одних отрывках – например, Матфей и Лука используют Евангелие от Марка, – в других отрывках эти источники являются независимыми свидетельствами.) И никак нельзя говорить, что единственного свидетеля историчности Иисуса мы имеем в лице Марка: есть еще шесть произведений, в той или иной степени независимых. Для историка это настоящий кладезь, о котором исследователи иных вопросов античной истории могут лишь мечтать. Кто-то отмахнется от евангельских свидетельств: дескать, евангелисты писали поздно (самый ранний из них – через четыре десятилетия после Иисуса), да и были предвзяты… Об этом мы поговорим ниже. А пока посмотрим, откуда они черпали свою информацию об Иисусе. Мифологисты, сбрасывающие Евангелия со счета в качестве свидетелей историчности Иисуса, часто недооценивают следующий факт: да, эти тексты начали появляться через сорок лет после традиционной даты смерти Иисуса, но они были основаны на более ранних письменных источниках. Эти источники до нас не дошли, но коль скоро они существовали, они относились к более раннему периоду, чем Евангелия. Еще раз вспомним пролог Евангелия от Луки: Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе… Как мы увидим, к информации евангелистов следует относиться осторожно и критично. Однако нет оснований полагать, что Лука лжет. Ему были известны «многие» более ранние авторы, составившие повествования о жизни Иисуса. Начиная с середины XIX века, в науке постепенно образовался консенсус относительно того, каковы были эти источники. Разумеется, я не хочу сказать, что среди ученых царит полное единодушие во всем – идут оживленные споры о частностях, – однако в плане общей картины согласие есть. В основе этого согласия лежат тщательные анализы. Анализы проводились учеными, положившими жизнь на изучение соответствующих вопросов. Согласно мнению почти всех специалистов, Лука использовал, в частности, Евангелие от Марка. Этот факт любопытен: ведь замечание Луки о «многих» более ранних авторах наводит на мысль, что он не считал их труды идеальными. Вот почему он вознамерился изложить все «по порядку» (в противовес предшественникам?). Если мы правильно поняли подтекст его заявления, получается, что либо он не был очень лестного мнения о Евангелии от Марка, либо оно не подходило для его целей. Поэтому он взялся за перо самолично. Вместе с тем многое в Марке ему нравилось, коль скоро он воспроизвел целый ряд его отрывков (подчас дословно). Но были у него и другие источники. Об одном из них мы уже говорили: не сохранившееся до наших дней Евангелие, которые ученые обозначают литерой Q [56]. Основания считать его более ранним, чем синоптики, и доступным синоптикам, связаны с литературной взаимосвязью между Евангелиями от Матфея, Марка и Луки. На наличие прямой литературной взаимосвязи указывает следующий факт: они рассказывают множество одинаковых историй, причем часто в одинаковой последовательности и одинаковыми словами. Ясно, что кто-то у кого-то переписывает. Далеко не все отрывки были заимствованы Матфеем и Лукой у Марка: у них есть ряд общих отрывков, которые у Марка отсутствуют (например, молитва Господня и заповеди блаженства). Есть веские основания полагать, что Матфей и Лука работали независимо друг от друга, и лучше всего объясняет факты гипотеза, согласно которой они пользовались общим источником [57]. Немецкие ученые, наиболее полно разработавшие данную гипотезу, обозначили гипотетический текст словом Quelle («Источник»). Впоследствии стали сокращенно писать не Quelle, а Q. Получается, что Q – это материал, который есть у Матфея и Луки, но отсутствует у Марка. Он взят из письменного Евангелия, не сохранившегося до наших дней. Судя по всему, Q состоял в основном из речений Иисуса (как и более позднее Евангелие от Фомы). По мнению большинства ученых, Q не содержал рассказов о смерти и воскресении Иисуса (коль скоро повествования Матфея и Луки о Страстях не содержат общих материалов, отсутствующих у Марка). На мой взгляд, спешить с выводами не стоит: не исключено, к примеру, что Матфей переписал некоторые сцены Страстей из Q, а Лука не стал этого делать. Вдруг какие-то эпизоды, имеющиеся только у Матфея, были взяты именно из Q – Лука же решил о них не упоминать? Выяснить это у нас нет возможности. Независимо от того, содержал ли Q рассказ о смерти и воскресении Иисуса, он, видимо, был написан не позже Евангелия от Марка. Многие ученые относят его к 50-м годам. Лука, по его собственным словам, использовал и другие источники. Точное их число он не называет. Однако мы видим, что Лука приводит множество историй, о которых другие евангелисты не упоминают (например, притчи о блудном сыне и милосердном самаритянине). Данные отрывки он почерпнул откуда-то еще: ученые предоставили убедительные аргументы в пользу того, что он не выдумал все подряд. В науке «особый материал Луки» обозначается литерой L. Этот материал мог быть взят из одного источника или из ряда источников. За ним может стоять также комбинация письменных документов и устных преданий (об устных преданиях мы поговорим ниже). Основывался на письменных источниках и Матфей. Подобно Луке, он пользовался Марком (даже еще активнее, чем Лука) и Q. Однако он также включил ряд эпизодов, отсутствующих в других Евангелиях (например, притчу об овцах и козлищах). Эти эпизоды составляют так называемый «особый материал Матфея» (обозначается литерой M). Как и L, M мог быть заимствован из одного письменного источника, или из ряда письменных источников, или из сочетания письменных источников и устных преданий. Таким образом, в случае с синоптическими Евангелиями от Матфея, Марка и Луки, мы имеем дело не просто с тремя книгами, написанными в конце I века, но как минимум с четырьмя источниками (Марк, Q, M, L), причем последние два источника могли включать в себя несколько или даже много письменных источников. Многие авторитеты по Евангелию от Марка полагают, что в его основу были положены не только устные предания, но и письменные источники. Часто высказывается версия, что Марк воспользовался письменным рассказом о Страстях, в котором были изложены события ареста, суда, смерти и воскресения Иисуса. Джоэль Маркус в своем монументальном двухтомном комментарии утверждает, что Марк использовал как минимум один источник в рассказе о словах и делах Иисуса, предшествующих Страстям [58]. Если он прав, то не только поздние синоптики, но и древнейшее из сохранившихся Евангелий основано на множестве источников. Согласно широкому мнению, целый ряд письменных источников, утраченных к настоящему моменту, был положен в основу Евангелия от Иоанна. Как мы уже сказали, тезис о независимости Иоанна от синоптиков строится на том, что об одних и тех же событиях они рассказывают очень по-разному и всегда разными словами. Однако ученые давно высказали мысль, что у Иоанна был в распоряжении письменный рассказ о чудесах Иисуса («источник знамений») как минимум два текста с длинными речами Иисуса («источники речей»), а также, возможно, еще один рассказ о Страстях [59]. До сих пор мы вели речь лишь о четырех канонических Евангелиях. Сложно сказать с полной уверенностью, восходят ли к более ранним источникам какие-либо из более поздних Евангелий, в частности, Евангелие от Петра и Евангелие от Фомы (хотя некоторые исследователи высказали интересные аргументы в пользу положительного ответа на этот вопрос). Особенно впечатляют выкладки Эйприл Деконик, которая полагает, что в основу Евангелия от Фомы было положено некое Евангелие, существовавшее еще до 50 года н. э. [60]. Все эти письменные источники появились раньше, чем дошедшие до нас Евангелия. Все они подтверждают многие евангельские утверждения об Иисусе. Наиболее же существенна их независимость друг от друга. Подчеркнем этот последний момент: не надо думать, что раннехристианские Евангелия восходят к одному источнику, автор которого «изобрел» человека Иисуса. Историчность Иисуса предполагается в многочисленных и независимых друг от друга источниках, которые имели хождение в самых разных частях Римской империи за десятилетия до известных нам Евангелий. Какой уж там «один-единственный источник»! Уже через пару десятков лет после традиционной даты распятия мы видим многочисленные рассказы о жизни Иисуса, распространенные по широкому географическому ареалу. В дополнение к Марку, у нас есть Q, M (возможно, состоящий из многих источников), L (возможно, состоящий из многих источников), как минимум два рассказа о Страстях, источник знамений, два источника речений, основа Евангелия от Фомы (и возможно, некоторые другие тексты). И это лишь то, о чем мы знаем, о чем можем делать выводы на основании небольшого числа сохранившихся раннехристианских текстов. Никто не знает, сколько еще текстов существовало: Лука пишет о «многих» и, возможно, не без оснований… И опять-таки это еще не все. Первоначальный толчок исследованию Евангелий с позиции «критики форм» дал известный исследователь Нового Завета Карл Людвиг Шмидт. Этот подход развивали такие знаменитые ученые как Мартин Дибелиус и особенно Рудольф Бультман (пожалуй, самый великий и самый авторитетный специалист по Новому Завету в XX веке) [61]. Критика форм занималась процессом устной передачи рассказов об Иисусе. Предпосылка состояла в следующем: после смерти Иисуса, когда христианские миссионеры основывали церкви по всему Средиземноморью, истории об Иисусе рассказывались и пересказывались в самых разных ситуациях. Представители критики форм спрашивали: как именно разные виды рассказов обрели ту форму, какую обрели? Скажем, почему многие рассказы о чудесах построены по одному образцу? Человек подходит к Иисусу; следует описание его проблемы (болезни); после краткого обмена репликами Иисус соглашается совершить исцеление; исцеление осуществляется через слово или прикосновение; присутствующие изумлены. Практически все рассказы о чудесах состоят из одних и тех же элементов. Или взять рассказы о спорах. Иисус или его ученики делают нечто неправильное, с точки зрения еврейских вождей; вожди протестуют; Иисус разговаривает с ними; сцена завершается лаконичной репликой Иисуса, в которой он расставляет все по своим местам. Раз за разом – одна и та же форма. Критика форм заострила внимание на двух вопросах: каким было «место в жизни» (нем. Sitz im Leben) рассказов об Иисусе? И как разные виды рассказов обрели свою форму, то есть как получилось, что возникла одна форма для рассказов о чудесах – другая для рассказов о спорах и т. д.? Ответы критиков на эти вопросы не совпадали в частностях, но были едины в главном. А именно, повествования об Иисусе складывались в процессе рассказа и пересказа. Так они обрели свои характерные формы. Это означает, что по ходу дела рассказы модифицировались (подчас сильно), а то и выдумывались, с прицелом на нужды христианских общин. Допустим, евреи из местной синагоги ругали общину за недостаточно строгое соблюдение субботы. Тогда общинники могли выдумать рассказ о споре Иисуса с оппонентами по этому вопросу. Дескать, вот как блестяще Иисус заткнул противников за пояс! Насколько я знаю, многие тезисы Шмидта, Дибелиуса и Бультмана сейчас не разделяются учеными: все-таки вышеназванные авторы были первопроходцами. Однако с их базовой идеей и поныне согласны многие: до написания Евангелий (и даже до создания источников Евангелий) в церкви имели хождение устные предания об Иисусе; в процессе рассказа и пересказа предания модифицировались, а кое-что выдумывалось. Мы уже касались вскользь этого вопроса в связи с M и L: не исключено, что за данными евангельскими слоями стоят не письменные документы, а полностью или частично устные традиции. В конечном счете, это можно сказать обо всех источниках по историческому Иисусу: все они восходят к устным традициям. И это очень важно для решения вопроса о существовании Иисуса. Возникает следующая картина. Об Иисусе ходили рассказы задолго до появления Евангелий и даже их письменных источников. Возьмем два примера. Если верна научная гипотеза, что Q и Евангелие от Фомы возникли в 50-е годы на основе устных преданий, сколь далеко в прошлое уходят эти предания? Всем, кто признает существование Иисуса, ответить на этот вопрос несложно: они восходят к словам и делам Иисуса (ок. 29/30 года н. э.). Но даже тем, для кого существование Иисуса неочевидно, следует признать, что такие рассказы имели хождение в 30-40-е годы. Есть и такой момент: как мог Павел (да и не он один) преследовать христиан, если христиане не существовали? И как они могли существовать, не зная ничего об Иисусе? Мифологисты часто отвечают: христиане, гонимые Павлом (до обращения), да и более поздние христиане, обращенные им самим, не считали Иисуса исторической личностью, а почитали лишь божественного Христа. Образ божественного Христа якобы основан на языческих мифах об умирающих и воскресающих божествах. О недостатках этой гипотезы мы еще поговорим. (Один из них состоит в том, что Павел пишет об Иисусе именно как о человеке, учителе, распятом по инициативе еврейских вождей в Палестине.) Но даже если вынести Павла за скобки, есть все основания полагать, что рассказы об Иисусе имели хождение в крупных городах Средиземноморья с очень раннего периода. В противном случае откуда бы взялись письменные источники середины и конца I века? Эти источники независимы друг от друга. Они написаны в разных местах. Они очень по-разному подают учение и жизнь Иисуса. И все же многие их них (повторимся, независимо друг от друга!) согласны относительно основных аспектов жизни и смерти Иисуса: к примеру, он был еврейским учителем в Палестине и был распят по приказу Понтия Пилата. Откуда это взяли источники? Такие вещи нельзя списать на плод христианской фантазии: как получилось, что у людей в разных местностях она работала в одинаковом направлении, – и ведь совпадений действительно много! Ясно, что христиане основывались на устных традициях. И эти устные традиции передавались в течение очень длительного времени до того, как были записаны… Все это, заметим, отнюдь не пустопорожние домыслы. Особенности дошедших до нас рассказов об Иисусе в письменных Евангелиях – хотя евангелисты активно более ранние письменные отчеты, – показывают, что эти рассказы восходят к устным традициям (ср., напр., Лк 1:1–3) и распространялись в течение длительного времени (с появления христианства в Палестине!). Евангелия написаны на греческом языке (как и их источники), однако частично они восходят к преданиям на арамейском языке, языке Палестины. Эти предания имели хождение уже в первые годы христианства, до того как оно распространилось в грекоязычные земли разных областей Средиземноморья. Скажем, в нескольких евангельских отрывках оставлены слова на арамейском: транслитерированы греческими буквами, а рядом поставлен перевод. Взять хотя бы рассказ о воскрешении девочки (Мк 5). Там описан следующий случай: к Иисусу подходит Иаир, один из начальников синагоги, и просит исцелить его тяжелобольную дочь. Иисус соглашается, но по дороге его задерживают. К Иаиру подходят с вестью, что девочка умерла, но Иисуса это не смущает. Он приходит в дом, входит в комнату девочки, берет ее безжизненную руку в свою и произносит: «Талифа куми!» Это не греческая фраза, а арамейская. Поэтому Марк снабжает ее переводом: «Девица, тебе говорю, встань». Она встает, ко всеобщей радости. Этот рассказ изначально имел хождение по-арамейски, и переводчик на греческий оставил ключевую арамейскую фразу, требовавшую, однако, перевода для грекоязычных читателей. Кому-то это покажется странным, но ничего странного здесь нет. Такие вещи можно на каждом шагу встретить даже в наши дни в многоязычных обществах. К примеру, когда я учился в аспирантуре, у нас был преподаватель, который долго жил в Германии и хорошо знал немецкий язык. От студентов также требовалось знание немецкого (чтобы изучать научную литературу). Однако большинство из нас могли лишь читать, а не говорить по-немецки. Между тем профессор не снисходил к нашим слабостям. Частенько он рассказывал (по-английски) какую-нибудь историю из немецкой жизни, но доходя до ключевого момента, переходил на немецкий: в оригинале фраза звучала смешнее. Мы же старались уловить момент, когда нужно смеяться: не хотелось огорчать хорошего человека своим непониманием… Примечания 1 В русском переводе Библия цитируется по Синодальному переводу за исключением оговоренных случаев. В некоторых местах в перевод внесены небольшие изменения в соответствии с пониманием текста Б. Эрманом. – Прим. пер. 2 Earl Doherty, Jesus: Neither God nor Man: The Case for a Mythical Jesus (Ottawa, ON: Age of Reason Publications, 2009), vii-viii. Это значительно расширенная и кое-где пересмотренная версия прежней книги Догерти, которую иногда называют классикой современного мифологизма: The Jesus Puzzle: Did Christianity Begin with a Mythical Christ? (Ottawa, ON: Age of Reason Publications, 1999). 3 Albert Schweitzer, The Quest of the Historical Jesus, ed. John Bowden (1906; repr.; Minneapolis: Fortress Press, 2001), 478. Одобрительно цитируется в: Tom Harpur, The Pagan Christ (New York: Walker & Co., 2004), 166. Харпер знает, что Швейцер признавал историчность Иисуса, но то, как он цитирует данный отрывок, может создать у неосведомленного читателя иное впечатление. 4 Подробнее о первых мифологистах см. в: Schweitzer, Quest, главы 22 и 23 (Швейцер добавил эти главы лишь после успеха первого издания книги). Также краток, но полезен обзор в: Archibald Robertson, Jesus: Myth or History? (London: Watts & Co., 1946). См. также Jonathan Z. Smith, Drudgery Divine (Chicago: University of Chicago Press, 1990), глава 1. 5 См. Schweitzer, Quest, глава 11. 6 J. M. Robertson, Christianity and Mythology (2nd ed.; London: Watts & Co., 1910). 7 См. Schweitzer, Quest, 381–389. 8 Robert M. Price, The Incredible Shrinking Son of Man: How Reliable Is the Gospel Tradition? (Amherst, NY: Prometheus Books, 2003); Price, The Christ-Myth Theory and Its Problems (Cranford, NJ: American Atheist Press, 2011). 9 Frank Zindler, Religions and Scriptures, vol. I of Through Atheist Eyes: Scenes from a World That Won’t Reason (Cranford, NJ: American Atheist Press, 2011). 10 Thomas L. Thompson, The Messiah Myth: The Near Eastern Roots of Jesus and David (New York: Basic Books, 2005). 11 A. Robertson, Jesus: Myth or History? 107. 12 George A. Wells, Did Jesus Exist? (2nd ed.; Amherst, NY: Prometheus Books, 1986). См. также последующие его книги, в большинстве которых его аргументация не претерпевает сильных изменений и модификаций (см., однако, прим. 20): The Historical Evidence for Jesus (Amherst, NY: Prometheus Books, 1988); The Jesus Legend (Peru, IL: Carus, 1996); Cutting Jesus Down to Size: What Higher Criticism Has Achieved and Where It Leaves Christianity (Chicago: Open Court, 2009); “Is There Independent Confirmation of What the Gospels Say of Jesus?” Free Inquiry 31 (2011), 19–25. 13 A. Robertson, Jesus: Myth or History?, x. 14 John P. Meier, A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus (New York: Doubleday, 1991), I:87. 15 I. Howard Marshall, I Believe in the Historical Jesus (Grand Rapids: Eerdmans, 1977). Впрочем, критика в этом абзаце дополнена пространным примечанием. 16 Серьезно относятся к мифологистам немецкие новозаветники Герд Тайсен и Аннет Мерц: Gerd Theissen & Annette Merz, The Historical Jesus: A Comprehensive Guide (Minneapolis: Fortress Press, 1998), 122–123. 17 D. A. Murdock, The Christ Conspiracy: The Greatest Story Ever Sold (Kempton, IL: Adventures Unlimited, 1999). 18 Murdock, Christ Conspiracy, 21. 19 Murdock, Christ Conspiracy, 154. 20 Timothy Freke & Peter Gandy, The Jesus Mysteries: Was the «Original Jesus» a Pagan God? (New York: Three Rivers Press, 1999), 2. 21 Хорошее и четкое современное изложение мифологической теории см. в: George A. Wells, «Independent Confirmation». Как будет ясно, в одном важном вопросе Уэллс расходится с другими мифологистами: он не возводит инвенцию исторического Иисуса к мифам о языческих богах. По его мнению, образ Иисуса уходит корнями в еврейские традиции Премудрости, в которых Премудрость Божия была персонифицированной: она была с Богом при сотворении мира, а затем посещала людей (см., напр., Притч 8). 22 Robert Price, The Christ-Myth Theory and Its Problems (Cranford, NJ: American Atheist Press, 2011), 15. 23 Единственное исключение в новозаветных Евангелиях мог бы составлять знаменитый рассказ о женщине, взятой в прелюбодеянии (Ин. 8): когда решается вопрос об обвинении женщины, Иисус что-то пишет на земле (прежде чем сказать: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень»). К сожалению, данный отрывок не входил в первоначальный текст Евангелия от Иоанна, а был добавлен позднее. 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
|||||||||