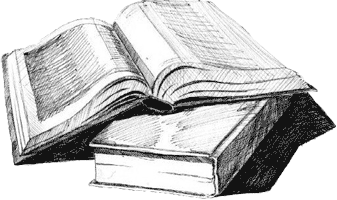 |
|
Популярные авторы:: Кларк Артур Чарльз :: Горький Максим :: Азимов Айзек :: Joyce James :: Андреев Леонид Николаевич :: Чехов Антон Павлович :: Толстой Лев Николаевич :: Борхес Хорхе Луис :: Лондон Джек :: Уэйс Маргарет Популярные книги:: The Boarding House :: Подземная Москва :: Бурый волк :: Единственный способ :: Справочник по реестру Windows XP :: Чужое :: Земной свет :: Авторитет :: С кометой :: Гордость и страсть |
Лангедокский цикл - Бертран из ЛангедокаModernLib.Net / Альтернативная история / Хаецкая Елена Владимировна / Бертран из Лангедока - Чтение (Ознакомительный отрывок) (Весь текст)
Бертран из Лангедока
Глава первая Жемчужная слезка 1179 год, Пюи ЛоранБертрану 34 годаКак сейчас вижу давний праздник Юности и Любви, каждый год зеленым маем, между Пасхой и Пятидесятницей, проходивший в Пюи Лоране, что в получасе пути от Черной Богоматери в пещерах – чудотворной статуи, излучающей свет милосердия. Стоит лишь прикрыть глаза, отрешаясь от шума и суеты, – и перед внутренним взором встает пышный сад, расцвеченный гирляндами, свисающими со всех деревьев: с отцветших яблонь и еще не зацветших лип, со старого узловатого дуба, такого древнего, что дети в Пюи Лоране считают его дедушкой всех дерев, – словно недостаточно естественного цветения майских трав; повсюду венки, букеты; везде благоухание и разноцветье. Гирляндами ранних роз и белоснежных колокольчиков увиты мосты через ручей, причудливо вьющийся по саду, и садовник в низенькой лодке нарочно проплывает каждое утро под этими мостами, осторожно срезая увядшие цветы и вплетая на их место свежие, а после опрыскивая водой из ручья, ибо погода стоит на диво ясная и теплая и дождей не было вот уже три седмицы. Под навесами, увитыми диким виноградом, накрыты столы. Все изобилие щедрого южного края, неиссякаемое, будто в раю, – о, воочию предстает оно. Нынешнее – жалкий, бледный отголосок того, что было когда-то. Темное и светлое виноградное вино в серебряных и глиняных кувшинах – каждое источает свой особенный аромат; жареное на вертелах мясо, истекающее жиром и кровью; хрустящие свежие овощи, – янтарный лук, изумрудный салат. Под стать этой земле и люди – знатнейшие рыцари Лангедока и прекраснейшие из дам, учтивые кавалеры, отважные воины, сладкоголосые певцы-менестрели. Роскошный цветник владычиц так и переливается всеми возможными красками: голубые шелка, белый атлас, королевский пурпур, меховые оторочки. Золотистые и темные косы, змеящиеся по округлым плечам, увиты лентами, которые в свою очередь усажены драгоценными камнями и жемчугом. Искрятся пряжки и застежки, сверкают шелка, но все это великолепие меркнет перед ослепительной красотой женских лиц: домна Аэлис, домна Гвискарда, домна Матильда, домна Айа… невозможно остановить выбор на какой-либо из них, ибо каждая по-своему ласкает взор немыслимой прелестью. Все вокруг пропитано любовной игрой, будто торт сладким вином, что готовится сейчас на кухне. Даже здесь, среди кастрюль и начищенных медных сковородок, порхает невидимое, но такое могущественное в Стране Ок божество – Амор. Помощник повара, именем Жеан, поэтическим даром и сердцем чувствительным не обделенный, да вот беда – рожденный от скотницы и конюха! – рыдает прегорестно. И падают слезы его прямо в суп, и становятся жемчугами – столь велико его горе и столь чиста его душа, мадонне Аэлис преданная. О, до гроба, до гроба! Отчего Жеан рыдает? Оттого, что у кастрюль торчит, и нос его в саже выпачкан, и строки, что из самого сердца льются, записать не может – грамоте не обучен. А кто их запишет? Кому в ноги броситься? Не капеллану же – строки-то о желании плотском, о маленьких грудках, в атласном плену томящихся, о бедрах округлых, серебряным поясом усмиряемых. А домна Аэлис на Жеана и не посмотрит. На что домне Аэлис этот Жеан с его всклокоченными черными кудрями и пятном сажи то на носу, то на скуле (будто само по лицу ползает, будто живое оно – сотрешь в одном месте, ан уже в другом обнаружилось), с его ручищами, от работы грубыми, с его ножищами, какие сразу выдают происхождение от конюха и скотницы, – на что домне Аэлис такой вот неотесанный Жеан? Есть, от чего зарыдать. Вот и плакал Жеан, да так горестно, что услышь его кто-нибудь с сердцем почувствительнее, чем у повара, содрогнулся бы от сострадания. Повар же ограничился затрещиной и велел дров в печь подбавить и с супом поспешать. А празднество в самом разгаре. Строгие судьи призваны судить кансоны и сирвенты: домна Айа и домна Гвискарда – прекраснейшая и опытнейшая из дам, если не считать Марии де Вентадорн, превосходившей ее во всем, кроме, может быть, красоты. Ковер тканый, многоцветный, с травой синей и цветами красными – вот что такое сад под ногами строжайших судей и верных их трубадуров и воздыхателей. До самого неба ковер этот тянется, а небес и не видать, только свет оттуда, сверху, льется. Всяк учтивый кавалер ищет благосклонности своей дамы. Повсюду бряцают струны, раздаются звонкие голоса менестрелей. Изнемогая от скуки, бродил по благоухающему саду Бертран де Борн, и все ему было немило: и сладкоголосое пение, и разнаряженные дамы, и куртуазные игры в неземную любовь. Жена, домна Айнермада, осталась дома. Она снова была беременна – в тридцать пять лет, после четырех родов (последнего ребенка, девочку, они потеряли). Ранняя засуха нынешнего года уже сказалась на сенокосе и еще аукнется, когда приспеет пора убирать пшеницу. Бертрана не особенно заботило, откуда мужланы берут хлеб, хотя, в отличие от домны Айи, известной детской наивностью нрава, он подозревал, что булки на деревьях не растут. Но в сухой год сколько крестьянина не дави, а больше соков, чем в нем есть, все равно не выжмешь… – А, мессен Бертран! Вот вы где прячетесь! Злой, злой, злой! Тяжко, всей грудью, вздохнув, поднял Бертран голову. Солнечным светом залитая, с руками атласными, со станом гибким, в тугой синий бархат затянутым, стоит и сердится на него домна Матильда де Монтаньяк. В руках гирлянду вертит, будто плеточку. – Вот вам за то, что такой злой! Хлясь! Гирлянда, из цветов и шелковых лент свитая, захлестывает его шею. – Попались, Бертран де Борн! Попались, грешник! Осторожно повесил цветы себе на шею, глянул на Матильду из-под русой челки виновато, как нашкодивший мальчик. – Я и без того ваш вечный пленник, домна Маэнц. – А, не говорите так! Все пустое! – Тонкий пальчик грозит, но грозит шутливо. – Вы ветреник! О ком вы думали? Он манит ее подойти поближе. С охотой, приподнимаясь на цыпочки, подходит Матильда, окатывая его ароматом розовой воды и пота. Поднимает к нему лицо – правильное, неподвижное – только одна бровь слегка изогнулась. – Вы действительно хотите знать, о ком я думал? – Конечно! – И не будете сердиться? – Я уже сержусь! – говорит она со значением. – Стало быть, я все равно погиб. – Он снимает гирлянду со своей шеи и осторожно опутывает цветами и лентами плечи домны Матильды. – Хорошо, я скажу вам. Я думал о графе Риго. У нее такой растерянный вид, что на это стоит поглядеть. Губки надулись, глазки распахнулись. – О ком? – Она не верит собственным ушам. Бертран еле заметно улыбается. – Ну да, о графе Риго. – Вы разве… я хочу сказать… Боже, я, конечно, слышала, но… – Она отступает на шаг, оглядывает его с головы до ног, на красивом личике проступает отвращение. – Разве вы?.. Поняв, о чем лепечут прелестные уста, Бертран запрокидывает голову и оглушительно, совсем не куртуазно, хохочет. – Господь с вами, домна Маэнц! Вы о НЕКОТОРЫХ наклонностях графа, да? Говорят, он не пропускает ни одного хорошенького мальчика, но я-то мало похож на хорошенького мальчика! Да уж. Бертран де Борн мало похож на хорошенького мальчика. Ему тридцать четыре года, он высокого роста, почти вровень с верзилой графом Риго, и хотя от природы хрупкого сложения, с узкой кистью и неширокими плечами, – силен и ловок. Краска медленно заливает лицо домны Матильды. – Ах, мессен! – укоризненно шепчет она. – Вы совсем позабыли вашу бедную Маэнц! Бертран глядит на нее виновато. – Как же быть, чтобы вы меня простили? – спрашивает он, беря ее за подбородок. Милое капризное дитя. Как хороша, когда гневается. – Ах, не знаю! Злой! Топнув ножкой и сбросив с плеч гирлянду, она убегает. Свесив голову, бредет Бертран к пиршественным столам. Он оглядывается по сторонам, будто впервые видит все то, что щедро открывается взору: празднично убранные столы, нарядных дам и кавалеров, состязания менестрелей, бывалых воинов, занятых негромкой беседой. Некогда был Бертран полон сил, стихи переполняли его, каждая женщина казалась желанной добычей, крепостью, которую необходимо покорить (и покорял!). Каждый приз, будь то золотая цепь или простой полевой цветок, виделся достойным яростной борьбы (и завоевывал!). И сразу стал одним из первых, не пришлось долгие годы добиваться признания, медленно восходя к успеху. Ворвался ураганом в этот чинный цветник Куртуазности, закружил в неистовом порыве цветочки и листочки, но осторожно при том закружил, ни одного не повредил – просто немного потанцевать заставил. Разве что пару лепестков местами переставил. И все полюбили его, все узнали его, все восхитились: ах, превосходнейший трубадур Бертран де Борн! Храбрец, наглец, удалец: с королевскими сыновьями дружит и ссорится, знатнейшую даму Лимузена во всеуслышанье объявил своей госпожой и песни в ее честь сочиняет. А потом как-то разом другую даму себе нашел: домна Гверра[1] ее звали. Все в этой домне было прекрасно, ни одна земная женщина с ней сравниться не могла. И блага несла с собой такие, какие никакая иная дать не могла. Так пеняла на Бертрана де Борна его дама Маэнц де Монтаньяк своим подругам. Вдруг у пиршественных столов, накрытых прямо в саду, – шум и переполох страшнейший. Сбегаются слуги, слетаются дамы. Что случилось? А вот что: домна Аэлис, сидя под навесом, увитым диким виноградом, кушала суп и подавилась. Она кашляет, суп пузырится у нее носом. С шумом взлетает стайка воробьев. Ах, какой ужас! Разрежьте корсаж! Устрашающего вида кинжал, с убитого сарацина в Святой Земле снятый, вспыхивает в воздухе, его заносят над несчастной домной Аэлис. Вспарывается белый атлас, и, к великому восхищению окружающих, на волю выпархивают маленькие округлые пленницы, но домна Аэлис задыхается, она краснеет, она синеет, из ее горла вырывается хрип. Домна Аэлис беспомощно бьет руками, ее груди подскакивают, узкая ручка, унизанная перстнями, попадает по соусу, брызги летят во все стороны. Огромные жирные пятна расползаются по атласу разрезанного корсажа домны Аэлис. Безнадежно испорчено платье домны Гвискарды. Домна Айа уже потеряла сознание. Домна Аэлис умирает. Домна Айа не вынесет смерти домны Аэлис. – Да отойдите вы, кретины. Это старый Оливье де ла Тур, крестоносец, за свирепость в боях с сарацинами прозванный не де ла Туром, а просто Турком. – Пшел отсюда, говорю! Умело раскидал встревоженных подруг и неумех с лютнями. Грубые руки у Турка, в мозолях от поводьев и рукояти меча. От такого обращения один из кавалеров в траву упал и оттуда гневно на крестоносца уставился. Каков наглец! И не так уж он знатен, этот де ла Тур! Ах, как невежливо, как некуртуазно, фрр!.. Оливье схватил домну Аэлис за белокурые косы, пальцы в рот ей запустил и надавил на затылок, нагнуться заставил. Забулькало в горле у Аэлис, и прямо на траву и шелковый, мехами отороченный подол, извергла она все, что кушать изволила: ягодки и светлое виноградное винцо, печеньица и мяско, хрустящий изумрудный салатик и янтарный лучок, ароматный соус и липкие восточные сладости… Только вперемешку все это было и вид имело неприглядный. А поверх всего исторгнутого лежала крупная, с воробьиное яйцо, жемчужина. Рыдая, заливаясь соплями и слюной, мокрыми руками за разрезанный корсаж хватаясь, обвисла Аэлис на руках у Оливье-Турка. Тот по волосам белокурым красавицу гладит: – Все уже прошло, моя радость. Все позади. Она только головой мотала, от ладоней уходя, чтоб не смели ее по волосам гладить. Уворачиваясь от ласки, локтем по губам его задела: молчи, молчи! Замолчал Оливье де ла Тур, отпустил домну Аэлис. А тут и Бертран подошел – он Оливье-Турка вассалом был и земли из его рук получал, когда Итье де Борн, отец Бертранов, умер. Был с этим Итье Оливье-Турок весьма дружен и в Святую Землю вместе ходил; долгие годы связывало их братство по оружию и соседство владений. Оттого он и дочь свою Агнес, не дрогнув, за Константина де Борна, меньшого сына Итье, отдал. За благонравного, отцовской и сеньоровой воле всегда покорного Константина. А не за этого смутьяна и головореза Бертрана, от которого одни неприятности. Так-то оно так, только вот к Бертрану сердце Оливье лежало, а к Константину – нет. Ну да дело сделано. К тому же, когда Агнес в брачные лета вошла, Бертран был женат уже на своей Айнермаде, даме хорошего, хотя и не слишком знатного рода. Еле заметно улыбаясь, поклонился Бертран своему сеньору. – Вижу, едва не случилось несчастье? – спросил он. – Да, – сказал Оливье. – И случилось бы, не будь рядом мессена Оливье, – решительно заявила домна Маэнц. Рыдающую Аэлис передали дамам, и те увели ее в дом. А рыцарь, которого Оливье толкнул, когда к домне Аэлис спешил, наклонился над кучкой извергнутого из чрева прекрасной дамы, привлеченный блеском жемчужины. Поднял, рукавом от нечистот отер, и заиграла жемчужина пуще прежнего. Повертел в пальцах, остальным показал. – Не терял ли кто жемчугов? Начали оглядывать одежды. Но нет! Все жемчуга на месте, никто не сронил такого дива. Домна же Аэлис жемчугов не носила, о том доподлинно было известно. Да и не было ни у кого жемчужины такой величины и такого дивного цвета. Стали думать и гадать: откуда бы жемчужине в супе взяться? И сказала вдруг старая служанка, что большой серебряной ложкой суп из супницы по блюдам разливала: – Да простят мне знатные господа, коли вмешаюсь. Досадливо махнули на нее рукой прекрасные дамы: что еще за старуха такая безобразная? Но после разрешили ей говорить: давай, бабка, что там надумала? И сказала старая служанка: – Видела я, как на кухне, склонившись над горшками и кастрюлями, рыдает Жеан, поваренок наш, любовью терзаемый жестоко. Вбил себе в голову, болван эдакий, что принадлежит его сердце домне Аэлис, да пошлет ей Пресвятая Дева Пещерная долгие годы и много деточек! – Да при чем тут какой-то поваренок, какой-то Жеан, который слезы льет над горшками? – возмутились прекрасные дамы. И кавалеры их поддержали. Что за чушь! Какой еще такой Жеан-поваренок? Говори, старуха, откуда жемчуг, и нет ли там, откуда он взялся, еще такого же? – Так я и говорю, – заторопилась старуха, – рыдает, значит, Жеан, а слезы его тут же превращаются в жемчужины… Сама видела, вот этими глазами. – Вот вырвем сейчас тебе эти глаза, чтоб всякой глупости не видели, – пригрозил Оливье де ла Тур. Старуха совсем оробела, присела перед грозным Турком. – Ах, ваша милость, что за ужас вы говорите! Я бедная женщина, не стану врать. Жеан рыдает чистым жемчугом, ибо хоть и рожден он от скотницы и конюха, сердце у него светлое и доброе, а душа – как облачко, пронизанное солнечными лучами… – Да откуда тебе знать, старая ты ведьма, какая у него душа? Оливье де ла Тур совсем из себя вышел, вот-вот за оружие схватится. – Так ведь я та самая скотница и есть, от которой Жеан произошел, – жалобно проговорила старая женщина. Тут ее отпустили и послали за Жеаном. Привели Жеана. Бертран на траву присел, подальше от блевотины, чтобы ненароком не вляпаться. Любопытно ему стало. Жеан оказался лет семнадцати, а то и меньше; черные кудри во все стороны глядят, весь в саже, ручищи как грабли, ножищи как другие грабли, глаза от испуга на пол-лица сделались. Увидел блевотину, затрясся. Встряхнул его тот кавалер, которого Оливье де ла Тур на траву давеча уронил. – Знаешь ли ты, мужичья твоя душа, что ты домну Аэлис едва до смерти не уморил? Жеан под пятнами сажи белый стал – белее атласа. Другой кавалер его по лицу ударил, пока первый за шиворот держал. – Ведомо ли тебе, навозный ты мешок, что жемчужина твоя поперек горла домне Аэлис стала? – Ох, – вымолвил Жеан. Губы облизал. – Что с ним сделать? – спросил первый кавалер. – Повесить! – сказал второй. И вдруг надумал что-то и с жемчужиной в пальцах к Жеану подступился. – А ну, заплачь! Жеан на него глаза вылупил. – Зачем это? – Как – зачем? Чтобы каждой даме – по такой жемчужине! Дамы забили в ладоши: знатно придумано! А Жеан только стоит и тупо глядит перед собой. А прямо перед ним Бертран де Борн сидел, так что получилось, будто бы незадачливый этот Жеан на Бертрана де Борна вылупился. – Что не плачешь? – спросил Жеана кавалер. – Так… не плачется, – пробормотал Жеан. Тут кавалеры бить поваренка начали. Больно били, и по лицу, и по рукам, когда голову свою лохматую прикрывать вздумал, и в поддых, а когда на колени пал, то и по спине и по тощим бокам. Корчится Жеан на траве, мычит себе под нос, но ни слезинки проронить не может. Отступились тогда от него кавалеры и решили дружно, что надобно такого бесполезного Жеана повесить – в назидание прочим мужланам. Старая служанка взвыла, но ее быстро отогнали, чтобы не мешала потехе. Жеана с земли подняли и потащили к старому дубу, дедушке всех дерев. Между гирлянд, из шелка, цветов и трав свитых, веревку приладили – молодые трубадуры слазали, не поленились. Дамы изящным цветником внизу сбились: смотреть, как ладно молодой трубадур на суку сидит. Оливье де ла Тур только плюнул и ушел: скучно ему глядеть, как мужлана какого-то вешают. А Бертран де Борн вдруг отвращением ко всему преисполнился. Как в блевотину ногой въехал (недоглядел-таки!), так и озлился. И решил он всех удовольствия лишить. Отыскал глазами домну Маэнц и упросил ее суд над Жеаном устроить. Ведь покушение свое учинил этот мужлан не по злому умыслу вовсе, а из-за любви. И судить его надлежит Судом Любви. Долго упрашивать не пришлось. Затея показалась еще любопытнее, чем если бы Жеана сразу повесили, без всяких разбирательств. Стали судить да рядить, и мудрая домна Гвискарда присудила так: чувства, испытываемые Жеаном, похвальны и достойны всяческого одобрения; но поскольку грубым мужланам, сыновьям скотниц и конюхов, подобные чувства испытывать непозволительно, то… Тут Жеан совсем голову потерял от страха, ибо потащили его к петле. А Бертран де Борн, все так же забавляясь, крикнул: – Может, какая-нибудь милосердная дева возьмет его в мужья, согласно старинному обычаю? Дамы так и покатились со смеху. Ах, какой затейник этот Бертран де Борн! Надели Жеану петлю на шею. У того вдруг в штанах сыро стало. Кому охота помирать в такой светлый день, когда лето только начинается? Никому не охота. И закричал Жеан – всей утробой взвыл: – Милосердия! Подтолкнули его ближе к дереву и на чурбачок, специально от кухни притащенный, встать велели. Бертран между тем к Марии де Вентадорн подобрался. За ручку взял, ручку ей поцеловал, к себе притянул и в округлое ушко прошептал: – Продайте мне этого мужлана. Как удивилась домна Мария – даже ушко порозовело. – На что он вам, помилуйте! Близко-близко темные глаза Бертрана, золотистым светом полные, озорные. – Помилуйте, домна Мария, да кто же вешает курочку, несущую золотые яички! – Так он отказался плакать. – У меня заплачет. – Что у вас на уме, Бертран де Борн? – Ничего. – Я вам не верю. – А напрасно. – Домна Маэнц говорит, что вы злой. – Я исключительно злой, домна Мария, но это между нами. Домна Маэнц сердится за то, что я думал не о ней. – А о ком? Ветреник! – О графе Риго. – Боже! Между тем стали звать повара, чтобы тот вышиб чурбачок из-под ног Жеана. Не кавалерам же этим грязным делом заниматься! Повар не то не слышал, не то делал вид, что не слышит. Жеан трясся так, что едва с чурбачка не падал. – Продайте, – повторил Бертран. – Обещайте мне, – многозначительно произнесла графиня Мария, – обещайте мне кое-что. – Разумеется! – Я отдам его вам без всякой уплаты, если вы сочините изящную сирвенту о жемчужной слезке. – Разумеется! – И никаких там Жеанов, никаких скотниц. Чтобы это был рыцарь… или паж, но непременно благородного рода… – Как пожелаете. Жеан на чурбачке пошатнулся и, чтоб не задохнуться, обеими руками в веревку вцепился. – И не смейте больше думать о графе Риго. – В вашем присутствии, домна Мария, я могу думать только о вас. – Гадкий. Вы думаете сейчас об этом мужлане. – Вовсе нет. Я думаю о жемчуге. – Вот видите! Бертран поцеловал розовое ушко и рявкнул, отвернувшись, чтобы домна Мария не оглохла: – Отпустите его! Кавалеры удивились. Повар, лениво ковылявший от кухни к старому дубу, замер на месте. Бертран легким шагом подошел к Жеану и повернулся к собравшимся. – Домна Мария подарила этого мужлана мне, – заявил он. Оливье де ла Тур, который в стороне сидел и вино себе из кувшина наливал, голову повернул и, на вассала своего буйного глядя, поморщился. Бертран, конечно, видел, как Оливье де ла Тур морщится, но совершенно не смутился. – Этот Жеан теперь мой и я сделаю с ним все, что захочу, – продолжал он. – А я хочу его простить и… О Боже! Жеан наконец высвободился из петли и едва не рухнул в объятия Бертрана. Это было последнее, чего Бертрану хотелось, особенно если учесть, что Жеан был выпачкан в саже, а в штанах у него противно хлюпало. Отпихнув Жеана и брезгливо отерев руки о ствол дуба, Бертран криво улыбнулся. – Сирвента, эн Бертран! Мы ждем! – крикнула домна Мария. Оставленный всеми, Жеан потихоньку убрался на кухню. Бертран же подсел к сеньору Оливье и взял вина из того же кувшина. Старый крестоносец все искоса на Бертрана поглядывал. Оливье де ла Тур, давний друг покойного отца, знал обоих братьев из Борна с детства. Бертрана он крестил. – Ах, Бертран, – вырвалось у Оливье, – почему не вы женаты на Агнес! – Так ведь я уже имел жену, когда домна Агнес… – начал Бертран, ошеломленный. – Вы могли попросить ее руки заранее, когда она была еще малюткой, – сказал Оливье. Бертран покачал головой. – Мне это даже на ум не пришло, – сознался он. Оливье накрыл его ладонь своей. – Я уезжаю в Святую Землю, – сказал он. – Когда? – Следующей весной, если все будет хорошо. Бертран промолчал. Оливье стиснул его пальцы и проговорил совсем тихо: – Послушайте меня, Бертран де Борн. Я знаю, какие у вас отношения с вашим братом Константином. Бертран молчал. – Вы так и не простили ему, что Аутафорт достался не вам. – А как Аутафорт мог достаться мне, если на домне Агнес женат он? – спросил Бертран. – Ну да, вам же и в голову не пришло просить руки моей дочери, – сказал Оливье. – А коли так, то вот вам мое завещание: вы будете хранить мир с вашим братом. Не для того я отдал Аутафорт за своей дочерью, чтобы вы его разорили. – Да почему вы думаете, что я собираюсь… – Я знаю вас, вот и все. Удивляюсь, эн Бертран, почему я не утопил вас в той купели, к которой поднес вас младенцем в день вашего крещения! – Может, и стоило бы, – пробормотал Бертран. – Но прошлого не воротишь. И коли уж я жив, с этим придется считаться. – Обещайте не трогать Константина, – повторил Оливье. – Пока вы живы, эн Оливье, ничто не потревожит вашего душевного покоя. – А когда я умру? – Вы еще долго не умрете, – уверенно сказал Бертран. – Если для покоя моей дочери нужно, чтобы я жил, черт вас возьми, эн Бертран, я проживу еще сто лет! – разозлился Оливье де ла Тур. Бертран наклонил голову и поцеловал широкую, иссеченную шрамами ладонь своего сеньора. – Живите сто лет, эн Турок, – проговорил он, легко поднялся и пошел прочь. – Черт бы тебя побрал, Бертран, – повторил Оливье, глядя ему вслед. – Черт бы тебя побрал! Глава вторая «Кто ближе мне и ненавистней брата…» 1153 год, БорнБертрану 8 летВ графстве Перигорском, на самой северной границе владений графа Элиаса Талейрана, вот уже два столетия стоит замок. Окруженный лесом, с деревенькой, прилепившейся с восточной стороны стен, достаточно высоких и крепких, чтобы доставить множество неприятностей всякому, кто вздумает навострить на них зубы. С северной стороны вьется, огибая две из пяти замковых башен, речка Мюро, быстрая и глубокая, шириной в полет стрелы. Замок называется Борн. И лес, что его окружает, называется Борн. И деревенька, что кормит его и укрывается под его стенами от бед, – того же имени. Владетели в этих краях вспыльчивы и заносчивы. Небо то и дело заволакивает тучами, начинает громыхать гром – два соседа между собою поссорились, честь свою оберегая. А после как-то все потихоньку расходится и снова воцаряется мир. Так, несколько горшков разобьют да десяток людей в землю закопают убитых. Между стенами замка Борн и мужицкими домишками простираются поля. Если больше заняться нечем, то хорошо смотреть отсюда, сверху, как там, внизу, на полях, от зари до зари копошатся темные маленькие фигурки. Изредка сверкнет под солнцем серп или коса, послав ослепительную вспышку в глаза тем, кто устроился на стене. А кто сидит в летний полдень на стене, у узкой прорези, откуда в немирное время лучник может пустить стрелу? Это мы скоро увидим. * * *Давным-давно жили на этих землях люди иного языка. Уже и память о людях тех истлела и рассыпалась в прах, уже и прах тот снова распахали и зерном засеяли, уже и зерно то сжали и измололи и хлебы испекли, уже и съели те хлебы, уж и похоронили тех, кто хлебы те ел… Вот как давно то было. А куда люди те ушли? Говорят, ушли они на запад, за великие горы, в Арагон, в Кастилию, в те земли, что под нашествием мавританским погребены. Но уходя, оставили по себе кое-что. А что они оставили? О, страшное… * * *В летний полдень сидят на стене замка Борн вчетвером: мальчик восьми лет, господский сын, и кормилица при обузе – двух младенцах. Один – ее собственный, другой – новорожденный братик молодого господина. Камни разогреты, жаром и пылью дышат. Внизу, под стеной, и вдали, насколько видит глаз, до самого леса, на полях люди работают. Хорошо на стене сидеть. Все видно, куда ни глянь. И дядька Рено, воспитатель молодого господина, не вдруг до подопечного доберется. Все двери замковых служб раскрыты, жарко у пылающей печи. И разносится по всему двору запах мяса и тушеных овощей, так что у кормилицы, пока она страшными историями молодого господина тешит, текут по подбородку обильные слюни. То и дело захлебывается, рот обтирает. А молодой господин на кухню ее не пускает, за рукав теребит: дальше-то что было? И рассказывает дальше историю ту давнюю, как от тетки своей ее слышала. А тетка кормилицына – каких только историй она не знает! Ее нарочно зимними вечерами в разные дома приглашают, чтобы тоску разгоняла побасенками. Тетка-то и указала на племянницу свою, когда в замке кормилицу для новорожденного искали. * * *Ну вот… Был некогда один храбрый воин и звали его Бертран. Случилось все это, когда старый вяз тонким прутом был, а христианские рыцари еще не ходили в Святую Землю. Раз шел Бертран нашим лесом, который тогда был куда гуще, и устал. Остановился на ночлег, ибо не боялся спать под открытым небом. Он был странствующим рыцарем. Привязал коня, седло под голову подложил да так и заснул. Проснулся же на рассвете оттого, что ребенок будто бы плачет. Стал искать. Искал-искал, но не нашел. И вот почудилось ему, что дитя из-под земли кричит. А ребенок нешутейно заходится, вот-вот задыхаться начнет. Прилег тогда тот рыцарь Бертран ухом на землю, прислушался. И слышит, как говорит ему тоненький-претоненький голосочек: «Рыцарь Бертран, рыцарь Бертран!» Совсем растерялся тут Бертран, ибо в диковину ему было, чтобы звали его по имени голоса из-под земли. И говорит: «Кто зовет меня?» Он боялся, что это прежние языческие духи. Заплакал голосок пуще прежнего. И говорит: «Как уходили матушка с батюшкой со всем народом нашим на запад, за великие горы, в Арагон, в Кастилию, в те земли, что ныне под нашествием мавританским погребены, решили они последнего в роду здесь оставить. Положили меня, бедного, в ивовую корзину, пеленами не обвили, один только крестик деревянный мне на шею повесили, да так и закопали в сырую землю…» И плачет-заливается. Хоть и был тот рыцарь Бертран не трусливого десятка, а все же неловко ему стало и боязно. Слыхивал и прежде, что ведьмы такую вещь делают: зароют дитя живьем в сырой мох, чтобы оно своим плачем людей с дороги сбивало. Вот и говорит тот рыцарь Бертран: «Как же тебя звать, дитя?» Отвечает ребенок из-под земли: «Никак меня не звать. Не успели дать мне имени. Кликали младенцем-сосунком; крестик же на мне матушкин.» А «сосунок» на ихнем языке будет «Барн». Рыцарь же по-своему выговаривал: «Борн». И так он сказал, с земли поднявшись: «Не плачь, дитя, и матушку с батюшкой не жди больше. Ибо отныне я буду жить на месте этом. Я построю здесь замок, приведу сюда жену, чтобы она нарожала мне много здоровых и сильных деточек. И назову это место в твою память – Борн». И засмеялся тогда ребенок тот, заживо погребенный, и сказал: «Я буду охранять землю твою, рыцарь Бертран. Теперь незачем ждать мне возвращения матушки с батюшкой. Ты же с честью носи мое прозвание.» И замолчал тонкий голосок. Ну вот. Построил рыцарь Бертран на этом месте замок, как и говорил, и взял себе жену, а та нарожала ему много здоровых и сильных деточек. И так и повелось, мессен господин мой, что раз в двадцать лет рождается на этой земле мальчик и называют его Бертран. А уж остальных поименовывают как придется. Но старшего непременно так, как того рыцаря, который дитя зарытое нашел. Говорят, с тех пор успокоился тот ребенок, Барн. Но если тихой безлунной ночью лечь на землю ухом и прислушаться, то иной раз можно расслышать, как далеко-далеко, глубоко-глубоко под землей плачет новорожденное дитя… * * *Замолчала. От тишины да жара полуденного звон в ушах. Младенцы, сытые, заснули. Кормилица их на горячие камни положила, от солнца юбку над ними свою держит, чтобы тень была. Коленки у нее костлявые, даже на погляд шершавые. Дядька Рено, ругаясь про себя, на стену забрался. На коленки эти поглядел неодобрительно. И молодого господина прочь увел: батюшка зовет. От аббата приехали. * * *Владетеля замка Борн в те годы звали не Бертраном, а Итье. Небогат был, но горд и отважен; с сеньором своим, Оливье де ла Туром, ходил в Святую Землю, и от самого Бернара Клервоского благословение получал. Вернувшись из похода, взял себе жену, именем Эмелина, и уже через год обрел старшего сына – Бертрана. Семь лет после того детей не рождалось. Бертран рос, как хотел, ибо без памяти любили его и отец, и мать. Рено, дядька-воспитатель, из отцовых соратников по Святой Земле, хоть и простого происхождения, но с понятиями о благородстве, от сынка господского чуть не плакал. Едва лишь научился мальчик бегать, как повесили его на бычью шею этого Рено. И согнулась шея, которую ни война, ни лишения, ни самая смерть – ничто, казалось, не в силах было к земле пригнуть. А вот гляди ты! Мальчишка шутя это сделал. Наследник замка Борн так и норовил убиться. То с сеновала прыгать затеял – едва на вилы не напоролся. У Рено тогда первая седина вдруг в волосах проступила. То в речку Мюро за рыбой полез. Вытащили уже бездыханным, едва на этот свет воротили. И прочие подвиги в том же роде были. И чем старше становился, тем больше от него было беспокойства. * * *Но вот по истечении семи лет после рождения первенца госпожа Эмелина снова была в тягости. На исходе лета, когда созрели яблоки, разродилась она мальчиком. Едва только закричал младенец пронзительным голосом, оповещая весь мир о своем прибытии, как на вечный сон закрыла глаза госпожа Эмелина. Тяжко дался ей этот второй сын, а третьего уже не будет. И услышав, как плачет дитя, улыбнулась госпожа Эмелина и с тем отошла. Младенца омыли, завернули в теплые одеяла и уложили на просторную кровать. Повитуха еще загодя увидела, что после рождения ребеночка госпоже Эмелине не быть в живых, и потому сразу послала в деревню – искать кормилицу. Выбрала, кого на поиски послать, – Рено! Уж конечно сыскал: лет семнадцати, худенькую, с волосами желтыми, как солома. Молока – хоть залейся. Мужа у ней никакого не водилось, а вот дитя каким-то образом завелось. Сказал ей Рено, от беды совсем озлившийся (и в лучшие времена ласковым не бывал): – Бери своего ублюдка и за мной ступай. Девочка от страха тряслась, на угрюмого этого старика глядя, ибо казался ей тридцатилетний Рено совсем старым. Он же младенца ее подобрал, будто куль с тряпьем, в руки ей сунул и за собой потащил, к замку. И вот стоит она подле господского ложа и на мертвую госпожу Эмелину испуганно глаза таращит. Однако долго стоять без дела девчонке не приходится. Подают ей новорожденного господина и кормить велят. Жадно приложился новый молодой господин к обильной груди кормилицыной, а после глазки смежил и задремать изволил. Забралась девочка на широкую господскую кровать, застланную мягкими одеялами, шерстяными и меховыми. Рядом мертвая госпожа лежит, на лице улыбка остановилась. Вокруг прислуга суетится, прибирает. Наконец убраны все следы тяжелой борьбы. И вот вводят за руку Бертрана, старшего брата. Настороженно глядит Бертран, носом шевелит, будто пес охотничий. В комнате противно пахнет кровью. Сперва к матушке его подводят. Бледная, с серой кожей, лежит матушка, щеки у нее ввалились, как после долгой голодной зимы, губы посинели. Ресницы веером на щеку легли, на веках жилки проступили. Бертран в лоб матушку целует – прохладный лоб, твердый. На дядьку оглядывается: ладно ли? Дядька Рено головой своей медвежьей кивает одобрительно: ладно, ладно, молодой мой хозяин. Затем обходят кровать и к другому боку просторного ложа подводит Бертрана дядька Рено. Высунув из-под одеял свой птичий нос, девчонка-кормилица краской заливается под серьезным взглядом мальчика, которому после смерти старого сеньора Итье быть ее господином. С собой едва совладав – от смущения ноги у нее подкашиваются – встает и сверток неопрятный протягивает. Бертран на Рено взгляд бросает удивленный: что это, мол, еще такое? Рено улыбается, едва заметно. – Это ваш брат, эн Бертран. Бертран внимательнее глядит на сверток. Пальцами одеяло раздвигает, видит сморщенное красноватое личико, веки без ресниц, десны без зубов. И говорит Бертран вполголоса, отвращения не скрывая: – Cal croy! (Какой уродец!) * * *Так, сказывают, зародилась великая вражда между двумя братьями. Глава третья Бестиарий любви 1172 год, БордоБертрану 27 летЖил один знатный рыцарь и звали его Бертран. Владения его находились в графстве Перигорском, которое принадлежало тогда Элиасу Талейрану – тому самому, что взял себе в супруги Маэнц де Монтаньяк. Отец этого Бертрана, именем эн Итье де Борн, славный воин, сражавшийся некогда против сарацин, умер, оставив замок Борн и земли – пашни и лес – старшему сыну, Бертрану. Имелся еще младший сын, эн Константин, но тому по смерти батюшки едва шестнадцать лет сравнялось, потому и говорить о нем пока не стоит. Был эн Бертран де Борн когда спесив, а когда отменно вежлив – смотря по тому, с кем дело имел. И если многие рыцари считали его наихудшим из противников, то большинство дам единодушно сходились на том, что более учтивого кавалера сыскать трудно. Впрочем, и то, и другое мнение служило рыцарю Бертрану ко славе. Наизнатнейшая и прекраснейшая из всех дам той страны, где вместо «Оui» говорят «Оc» (почему она и называется «Лангедок», то есть «Страна Ок»), – королева Альенор – любила общество этого рыцаря Бертрана. И потому рыцарь Бертран часто наезжал в Бордо, где королева Альенор бессменно жила в последние годы – с тех пор, как вероломный старый король Генрих оставил ее. И часто при королеве Альенор жили ее молодые сыновья, будущие короли: Генрих Юный, граф Риго и Готфрид, которого эн Бертран особенно любил и звал «мессен Рыжик». А с графом Риго он не ладил и вечно норовил зацепить вспыльчивого графа, в шутках то и дело подходя чересчур близко к грани дозволенного. * * *Случилось однажды так, что явился к королеве Альенор один жонглер. Ибо по всей стране Ок шла молва, будто королева привечает у себя всех, кто славно поет или слагает стихи или владеет еще каким-нибудь дивным искусством. Был тот жонглер высок и худ, волосом темен, а лицом – сущая диковина, ибо одна половина лица у него белая, а другая – фиолетовая, отчего сразу же прошел слух, будто зачат этот жонглер в Святой Земле христианским рыцарем и сарацинкой. (В ту пору люди, по неразумию, полагали, что ежели какой-нибудь белокожий франк получит дитя от черной женщины, то родится дитя пятнистым, местами белым, а местами черным). Чем Создатель жонглера не обидел, так это голосом. Красивый голос, роскошный: то как скользкий атлас, то как прохладный шелк, то как мягкий бархат, то жемчугами рассыплется, то медью зазвенит, а то вдруг прольется, точно ручей на перекате… И все-то этот жонглер умел. И как только не пел! И на голове стоя – пел, и яблоки подбрасывая и ловко их на лету подхватывая – пел; и с лютней – пел, и без лютни – пел… Откуда он родом – неведомо; только не из Бордо. Песенки пел больше простые, незатейливые: «amorz» соединялось в них с «morz», а «terra» – с «guerra»; на том художества обыкновенно и заканчивались. Куртуазные и знатные дамы слушали, дивились, тешились. * * *Только одна дама не слушала того смешного жонглера, ибо была занята – прогуливалась по саду вместе с эн Бертраном. Была это младшая дочь королевы Альенор, именем Матильда. В том самом году, когда старый Итье де Борн закрыл глаза на вечный сон, была она помолвлена с Генрихом Львом, владыкой Саксонии, и с той поры смертно тосковала. Ибо скучен, груб и неотесан Генрих Саксонский и брак с ним – сущее мучение. И руки-то у северян, как грабли. И бороды-то у них как лопаты. И глазки-то у них махонькие, светленькие, от дыма слезящиеся. Слушал эн Бертран жалобы домны Матильды, о доле ее жалел и утешал разными речами. Представлял, будто она – Лана Прекрасная, а Генрих Лев – король Менелай, жены своей по достоинству оценить не умевший и от похищения ее не уберегший. А уж кто здесь куртуазнейший Парис – долго гадать не приходится. И вздыхала домна Матильда-Лана, речам эн Бертрана благосклонно внимая. А эн Бертран заливался, будто лебедь перед смертью, – такое вдохновение на него накатило! Предметом рассуждений была, разумеется, любовь. Что ни попадется на глаза, все на мысли о любви наводит. Увидели, как ворон по ветке бочком ходит, голову то вправо, то влево поворачивает, будто думает о чем-то, – у кавалера учтивого уж сравнение наготове. Домна Матильда-Лана смеется, на птицу мудрую глядя: потешная повадка у ворона. И как будто знает он что-то! – Надо бы слугам сказать, чтобы немного мяса под это дерево принесли, – заметила домна Матильда. Видно было, что полюбился ей этот ворон. Эн Бертран тотчас же о природе ворона речь завел, с природой любви ее сравнивая. Известно ведь, что ворон, едва только завидит мертвого человека, как немедленно выклевывает ему глаза, а после уж пробирается в мозг и выпивает все до капли. Пока рассказывал, взгляд затуманился: видать, вспомнил что-то. Домна Матильда от ворона взгляд к эн Бертрану обратила. Лицо у нее нежное, юное, почти детское, золотистыми кудрями обрамленное, пухлые губы приоткрыты – глядит доверчиво, как только девочки, переступающие грань пятнадцатой весны, на отважных и мужественных рыцарей смотрят. А был эн Бертран в те годы отменно красив, хотя нос ему уже перебили в одном поединке, и потому иной раз он довольно громко посапывал. Однако стоит ли о том говорить, ведь сопенье это лишь в тишине слыхать было. А где появляется эн Бертран, ни о какой тишине и речи быть не может: если не стихи и громогласное хвастовство, то перебранка и звон оружия. Русые, в кружок стриженые волосы у эн Бертрана, жесткие, как конский хвост, в темных глазах искры. А говорит как складно!.. – Неужто сразу глаза выклевывает? – переспрашивает Матильда-Лана, а сама все на забавную птицу поглядывает. – Раз Мартин Альгейс нашу деревню Борн проходил, – рассказывает эн Бертран. – Он двух мужиков убил. Когда мы с воспитателем моим Рено подъехали, то спугнули стаю воронов. И глаза у мертвых были уже выклеваны, а разум выпит. – Мартин Альгейс – это ведь разбойник? – спрашивает Лана. – Одни болтают, будто Альгейсов – десять братьев, другие – будто их трое или четверо, – говорит эн Бертран. – Но вот житья от них нет – это верно. Тут ворон на ветке громко каркает, будто напоминая о себе. И эн Бертран поневоле поднимает голову, чтобы встретиться глазами со взглядом блестящих, будто бы плоских, птичьих глаз. – Разум, домна Лана, помещается в мозге, – продолжает эн Бертран рассуждение о любви. – А жизненный дух, дающий движение, – в глазах. Когда глаза выклеваны, человек лишается жизненного духа и не может больше двинуться. Так и любовь – она лишает воли. Красота проникает в глаза – и вот уж кавалер не может шелохнуться. А овладев глазами, она легко оказывается в мозгу и выпивает его… – Как куртуазно все, что вы говорите, эн Бертран, – говорит домна Лана и берет рыцаря Бертрана за руку. – Как скучны эти северяне! Кто из этих неотесанных саксонцев растолкует мне природу любви? И делает шаг и вскрикивает, ибо по траве, шурша, проползает змея. Но с Матильдой-Ланой – эн Бертран, и можно не бояться, ибо он немедленно успокаивает домну Лану рассказом о природе змеи, которая также подобна природе любви. – Смотрите, домна Лана, как устрашилась вас эта змея! – восклицает эн Бертран. – Это потому, что вы одеты добродетелью. Если бы вы были лишены добродетели и обнажены (ибо грех обнажает), то эта змея, ничуть не устрашась, набросилась бы на вас и ужалила смертоносным жалом. Так ведь и любовь – она убегает, когда человек одет холодностью, но беспощадно жалит того, кто снял одежды скрытности и стоит беззащитный в своей откровенности… – Как утешительно то, что вы говорите, эн Бертран, – шепчет домна Лана. – Как это прекрасно… И помолчав немного, берет его за вторую руку. И так они стоят друг против друга, держась за руки и глядя друг другу в глаза: домна Лана – печально, эн Бертран – ласково. – Ведь вы отдадите за меня жизнь, эн Бертран? – еле слышно спрашивает домна Лана. – Смотря кому, – отвечает эн Бертран. * * *И вдруг страшный шум врывается в тихий сад. Впереди, завывая от ужаса и моля о пощаде, мчится жонглер. За ним – с треском ломая кусты шиповника, ругаясь, как тамплиер, – сам граф Риго с обнаженным мечом в руке. Следом за графом поспешает конюх с кнутом. Жонглер вопит: – Пощады! Конюх кричит, задыхаясь: – Вы же только выпороть его велели, мессен Риго! Граф Риго рычит: – Я передумал! Услужливо посторонившись, эн Бертран успевает подхватить домну Лану за талию, чтобы ее не сбили с ног. Вся кавалькада проносится мимо. Домна Лана широко раскрывает глаза. – Что это было, эн Бертран? Эн Бертран пожимает плечами. – Понятия не имею. Он подает руку домне Лане и ведет ее к скамье, увитой диким виноградом. Они усаживаются, чтобы было удобнее смотреть. Вскоре из кустов выбирается граф Риго. Дышит тяжело – освирепел и от погони раззадорился. Рыжий волос дыбом встал, точно грива у льва, лицо побагровело, страшным сделалось, глаза выкатились. На сестру свою, домну Лану, бешено глянул, рявкнул: – Куда он побежал?! Домна Лана холодно плечами пожала. А эн Бертран спросил: – Чем же этот урод так досадил вам, мессен, что и рук о него марать не побрезговали? Тут и конюх показался. Вид имел виноватый: упустил мерзавца! Граф Риго дал конюху богатырского пинка, конюх сгинул. Плюхнулся граф на скамью по левую руку от Матильды-Ланы (а по правую эн Бертран сидел и улыбался тихонечко). Густые свои брови нахмурил. И повисло тяжкое молчание. Домна Матильда-Лана камешек под башмачком покатала – со скуки. А эн Бертран спросил графа Риго, за кем он гнался и кто столь яростный гнев его вызвал. Граф Риго сказал, что гнался за наглецом жонглером, который поносную песнь про него, графа Риго, перед дамами дерзко распевал. Эн Бертран спросил, о чем была та песня. Тут граф Риго поднялся со скамьи и прочь зашагал. Эн Бертран ему в широкую спину глядел и любовался, ибо могуч и прекрасен был граф Риго. Тогда эн Бертран негромко свистнул и сказал: – Вылезай, ублюдок. Из-под скамьи высунулась разноцветная рожа. Состроила вид умильный, губы в трубочку сложила, глазами захлопала. Домна Матильда-Лана взвизгнула, платье руками подобрала, чтобы не запачкаться (она подумала было, что черная половина лица у жонглера раскрашена для смеха углем). Выбрался жонглер на траву, на ноги поднялся и учтивейше поклонился рыцарю Бертрану и прекрасной даме. – Я Юк, мессен, – сказал жонглер эн Бертрану. – Я умею ходить на руках, вертеться колесом, стоять на голове, подбрасывать и ловить сразу семь яблок, ни одного не роняя, и играть на лютне. И все это принадлежит вам, если хотите. – Гм, – вымолвил эн Бертран. А домна Лана спросила: – Чем ты раскрасил лицо – соком ягод или углем? Прежде чем ответить, жонглер Юк еще раз поклонился домне Лане. – Я не раскрашивал лица, прекрасная домна, – сказал он. – Оно у меня всегда такое. И поведал историю о саламандре. * * *Вот как это случилось. Рожден Юк от знатных родителей. И отправился он путешествовать в поисках какого-нибудь славного рыцаря, который принял бы его в рыцарское братство. Но покуда искал он славы, настигла его любовь. Была то дама редкой красоты, а звали ее Биатрис. Встречались они тайком, ибо муж этой дамы оказался удивительным ревнивцем, и дама не без оснований опасалась за жизнь своего возлюбленного. Однако несмотря на все предосторожности, заподозрил что-то ревнивый старый муж прекрасной Биатрис. И, затаив коварный умысел, вручил своей супруге подарок: дивное одеяние из белоснежных перьев птицы саламандры, такое изумительное, что раз надев, не захотела больше домна Биатрис с ним расставаться. И носила, не снимая, целых три года, отчего одеяние замаралось и утратило первоначальный блеск и сияние. Пыталась дама Биатрис стирать это платье, но оно, вместо того, чтобы очищаться, грязнело и тускнело еще больше, так что вскоре в нем было уже стыдно показаться людям. Тогда подступилась дама Биатрис к своему супругу с расспросами. Мол, как бы ей обновить это дивное одеяние из перьев саламандры, заставить его засверкать прежним блеском? Хитрец сперва отговаривался. Мол, зачем даме Биатрис это старье? Лучше он подарит дорогой супруге новое платье, из шелка. Но дама Биатрис и слушать не хотела. Тогда сказал муж даме Биатрис, что одеяние из перьев саламандры можно выстирать только одним образом: в огне. Но никто из прислуги не желал браться за такое опасное дело; сама же дама Биатрис не решалась. И подступилась она к своему возлюбленному, Юку, тому самому, который ныне рассказывает эту горестную историю прекрасной благородной домне и знатному рыцарю, ее другу. И согласился Юк выстирать одеяние в пламени, ибо подобно огню пылала в нем страсть к домне Биатрис и готов он был выполнить любое ее желание. Но едва только ступил он в огонь и погрузил руки с одеянием, как подлетела к нему белая птица и охватила его крылами. Это была саламандра, живущая в огне. – Птица? – переспросила домна Матильда-Лана. – Я слышала, что саламандра – это ящерица. Она действительно живет в огне и питается чистым пламенем… – Истинная правда, прекрасная домна и госпожа моя, – ответил жонглер Юк, низко кланяясь. – Однако у нее есть крылья и она покрыта перьями, почему кое-кто считает саламандру птицей. В то же время тело у нее, как у ящерицы, поэтому многие полагают, что саламандра все же ящерица. Ее природу можно считать двойственной, как и природу любви, которая одних возносит на крыльях, подобно птице, а других низвергает в ничтожество, к пресмыкающимся, что и произошло со мной от великой любви к даме Биатрис. Белая птица силой забрала одеяние из белых перьев и возложила на себя. А самого несчастного Юка опалила огнем, так что он утратил всю свою первоначальную красоту, и никто с тех пор не узнавал прежнего Юка в нынешнем уроде с разноцветным лицом: ни дама Биатрис, ни знатные родители… И потому, изучив жонглерское ремесло, стал Юк скитаться по дворам знатных сеньоров, развлекая прекрасных дам и издали любуясь их непревзойденной красотой… Горестная эта повесть столь глубоко тронула сердце домны Матильды, что эн Бертрану пришлось отвести принцессу в комнаты и препоручить заботам любящих подруг и матери – королевы Альенор. * * *В этом месте нашей истории надобно отметить, что дарами своими Создатель оделил рыцаря Бертрана хоть и щедро, но неравномерно, и если одних было в избытке, то других – явно в недостатке. Доблести и остроумия было эн Бертрану не занимать, однако с искусством подбирать музыку к уже написанным строкам, да и с самим музицированием тоже дела обстояли совершенно иначе. Потому стихи свои обычно отсылал эн Бертран к одному музыканту Раймону Планелю, а тот уже превращал немые строки в звонкие песни, то воинственные, то озорные, а то полные нежной грусти – это уж как эн Бертран сочинит. Ибо слагать стихи эн Бертран был мастер. Петь эн Бертран хоть и любил, но, щадя окружающих, нечасто дерзал, поскольку ни хорошего голоса, ни соразмерного слуха не было отпущено ему в надлежащей мере. И это весьма печально, что великолепные сирвенты распевались жонглерами, из коих наихудшим был Мальолин; сам же трубадур отчасти был как бы нем. Орать на прислугу – это пожалуйста. В бою до кого хочешь докричаться – ради Бога. А вот чтобы песенку спеть… Потому, отведя домну Матильду к ее матери, королеве Альенор, возвратился эн Бертран в сад, к той самой скамье, где с жонглером Юком расстался. Жонглер еще оставался там. Завидел Бертрана издали. Вскочил. Эн Бертран на скамью уселся, в жонглера взор вперил. Жонглер Юк казался одних лет с самим Бертраном. Был темноволос, с обильной ранней проседью в растрепанных, торчащих во все стороны волосах. Лицо и левая рука в ожогах. – Ну так что же, – вымолвил наконец эн Бертран. – За что тебя граф Риго зарубить хотел? – За песню, – уныло сказал Юк. – Спой, – велел эн Бертран. Юк огляделся по сторонам – не слышит ли кто. Так сильно напугал его граф Риго. Эн Бертран сердито засопел своим сломанным носом, и жонглер удивительно быстро понял, что медлить не следует. Лев – благороднейшая тварь (так незатейливо начиналась песенка), но так уж повелося встарь: хоть зверь и благороден, но ни на что не годен. Дальше в песенке повествовалось (довольно корявыми простонародными стишками) о любовных похождениях льва, который оказался настолько глуп, что в поисках пары набрасывался с известными притязаниями на всех встреченных им животных. Обрюхатил он волчицу, осчастливил лисицу, едва не разорвал куницу, покрыл двух старых коров, не пропустил ни козлов, ни ослов – хоть те и отбивались, а тоже льву достались. Увлекся Юк, глаза прикрыл от удовольствия. Сам свой голос слушает – и тает, тает… А голос и вправду чудный, богатый, с медью да с переливами. Похождения льва завершались встречей с одним мудрым человеком, который и растолковал отважному, но невежественному зверю смысл его необузданных порывов. «Признанье мне твое не внове, – сказал тот мудрый человек, – ты одержим любовью, а это страсть такого рода, что служит к продолженью рода». И объяснил мудрец неразумной твари, что надлежит искать тому подходящую для себя пару, одной с ним породы. Не следует дарить любовью, не разбираясь, всякую скотину и любую животину. Лев же, разумеется, спросил, как среди множества животных распознать львицу. Мудрый человек с охотой пояснил: мол, узнать ее вам будет просто: она такого же сложения и роста, как золото, у ней играет мех, она сильней и краше всех и от хвоста до зева львица – королева. И лишь одним от вас она разнится: без гривы львица. И что же сделал тот глупый лев после того, как ему все растолковали, будто ребенку? Пропев последний куплет, жонглер выразительно замолчал. Эн Бертран хмыкнул. – Принял за львицу львенка, – завершил он песню. – Теперь я понимаю, почему граф Риго не побрезговал гнаться за тобой с мечом в руке. Жонглер встретился с Бертраном глазами. – Неужто все, что говорят о графе Риго, – правда? – спросил он дерзко. – Почти все, – сказал эн Бертран. – Песню поносную кто сложил? – Я, – отвечал жонглер Юк. – Оно и видно, – заметил эн Бертран. – Слова корявые, да и музыка сущая дрянь. А голос у тебя и впрямь красивый… К такому голосу еще бы и песни хорошие. И пропел две строфы из своей старой сирвенты. Едва лишь эн Бертран запел, Юк, не страшась смерти, откровенно поморщился. Эн Бертран пение оборвал, снова хмыкнул – беззлобно (что для эн Бертрана большая редкость) и так обратился к жонглеру Юку: – А ну-ка расскажи мне правду, откуда у тебя эти ожоги… Юк и рассказал. Родился этот Юк на проезжей дороге. Мать, говорят, была паломница. На поклонение святым местам шла, к Иакову Компостельскому. А другие поправляют: нет, она бродяжка была. Только разница невелика. Донесла молодая мать новорожденное дитя до первого постоялого двора да там и оставила на милость недобрых людей. А другие поправляют: не своей волей дитя оставила – умерла она. Как бы то ни было, а ни матери, ни отца Юк отродясь не знал. Зато уж что ему с самого детства хорошо запомнилось, так это колотушки, попреки и тяжкая нудная работа с утра до вечера. – А потом Господь Бог, должно быть, увидел, наконец, как я страдаю, и сжалился надо мной. Напустил на наш постоялый двор грабителей, – так продолжал Юк. – Загнали нас всех в малую камору, что за кладовкой. Все, что было съестного, из кладовки вынесли, одежду из сундука забрали. После дверь бревном подперли и запалили дом с четырех углов. Я один выбрался. Как жив остался – до сих пор в толк не возьму. Потом уж фиглярствовать выучился… – Ладно, – так сказал эн Бертран. – Врешь ты складно, а правда, как я и думал, скучна и пресна, хуже вялой репы. Есть ли у тебя господин или же ты на свой страх по дворам знатных сеньоров таскаешься? На этот вопрос Юк Пятнистая Рожа отвечать не стал. Лишь просиял, как ясное солнышко, рот до ушей раздвинул и на Бертрана с обожанием уставился. Глава четвертая «Я жажду сразу всех дорог!..» 1156 год, ДалонБертрану – 11 летКак уже говорилось, между эн Бертраном и графом Риго никогда не существовало приязни. Да и откуда бы ей взяться, когда эн Бертран, скорый на язык, прозывал графа Риго «Oc-e-No», то есть – «Да-и-Нет», а уж какой гнусный намек скрывается под этим прозванием, – гадайте сами. Поначалу граф Риго дулся, после же решил всерьез обидеться. В ту пору оба куртуазно ухаживали за одной и той же дамой по имени Маэнц де Монтаньяк. За ней еще младший брат графа, Готфрид, ухаживал, но с Готфридом эн Бертран водил задушевную дружбу и звал того «мессен Рыжик». Богатым опытом куртуазного вежества эн Бертран делился с Готфридом охотно. И из-за дамы Маэнц с ним не ссорился. Да и мессен Рыжик, по правде сказать, Бертрану в рот смотрел. А вот граф Риго от злости чуть не лопался. * * *И вот случилось так, что собрались под вечер в саду у Марии де Вентадорн, дамы весьма куртуазной и опытной, множество прекрасных дам, среди которых выделялись красотой домна Маэнц де Монтаньяк и домна Гвискарда де Бельджок. Эта домна Гвискарда прозывалась еще «Мьель-де-Бе», то есть – «Лучше-чем-Благо». Ничего удивительного, что она вызывала ревность у других дам. Это-то прекрасное общество и взялись развлекать сразу три знатных сеньора, из которых двое, а именно, королевские сыновья граф Риго и эн Готфрид, отличались знатностью происхождения, третий же – непревзойденным остроумием (это был как раз эн Бертран). Поскольку дело клонилось к ночи и беседку постепенно заволакивала тьма, то и разговор пошел о предметах подобающих, то есть – о разных явлениях дьявола роду человеческому. Поначалу принялся пугать дам граф Риго. Рослый, с толстыми ляжками, светловолосый, казался он старше своих юношеских лет, и глядел из-под густых бровей свирепо и сладострастно. Дамы слушали, замирая. * * *Жил некогда на севере волшебник Мерлин (так начал граф Риго). Он совершил немало дивных дел и предсказал многое из того, что уже сбылось. После этот Мерлин заснул вечным сном, но, говорят, настанет день, когда он пробудится. Однажды, когда Мерлин был еще в силе, повстречался ему один рыцарь, весьма отважный и дерзкий. Больше всего на свете любил тот рыцарь соколиную охоту. Пустил он сокола, и напал сокол на огромную птицу Серые Перья. Бились они, бились, и заклевала сокола птица Серые Перья, а сама пала на землю – и обернулась Мерлином. И рассердился волшебник Мерлин на рыцаря, которому принадлежал сокол. И проклял его, сказав, что в роду его из поколения в поколение сын будет предавать отца, а брат – брата. Вот из какого рода по отцовской линии происходит граф Риго. Тут граф метнул на домну Маэнц жадный взгляд. Домна Маэнц рот приоткрыла, глаза распахнула, в пальцах платок теребит – страшно ей. А домна Гвискарда де Бельджок эн Бертрану глазки строит. Думает, никто в полумраке и не увидит. Граф Риго еще ближе к домне Маэнц придвинулся. Но проклятие Мерлина, что над отцовским родом висит, – ничто, если подумать о роде материнском! Домна Альенор сама видела то, о чем граф сейчас поведать хочет. Была у домны Альенор бабка красоты неописуемой, но природы странной – должно быть, дьявольской. У нее народилось много детей, но больше прочих любила она четырех меньших сыновей и всегда с ними ходила. За той дамой было замечено, что она рано уходила из церкви и никогда не оставалась при освящении Даров. Исчезала она незаметно, так что это не вдруг бросилось людям в глаза. Однако же приметили за ней эту странность и стали следить. И вот однажды муж этой дамы попросил четырех рыцарей встать подле его супруги и удержать ее, когда она вознамерится покинуть церковь прежде освящения Даров. Так и поступили. Вошла дама в храм, раскрыла плащ, и сыновья встали по обеим сторонам матери, двое справа и двое слева. Дочитали Апостол. Дама запахнула плащ и собралась было вместе с сыновьями выйти, да не тут-то было! Четверо рыцарей внимательно за ней следили и едва лишь сделала она шаг к выходу, как те тотчас же взяли ее за руки и вознамерились задержать. Страшно закричала тогда та дама, а после, оставив сыновей правой руки, подхватила сыновей левой руки, обернулась птицей и улетела – только ее и видели. Да и сама домна Альенор, сказывают, родилась в лебединых перьях – они годам к пяти осыпались… * * *От такого рассказа зябко стало дамам. Шутка сказать – граф Риго, потомок двух проклятых родов, родич дьявола, сидит среди них и преспокойным тоном об этом рассуждает. А тут еще сквозняком вдруг потянуло. Дамы невольно поближе к рыцарям придвинулись. И стало в беседке тесно и уютно, и всякое колено ощущало близость другого колена, а руки сплелись, будто возлюбленные в объятиях. Домна Гвискарда де Бельджок голову набок склонила и почти положила ее на плечо эн Бертрана. А тот сидит, не шелохнется – нравится ему. Да и кому не понравится! Разве что домне Маэнц, у которой глаза совсем злые сделались. Домна Гвискарда говорит: – Как страшно то, что вы рассказываете, эн Риго! Сама же умильно на эн Бертрана поглядывает. Граф Риго отвечает домне Гвискарде: – От дьявола мы пошли, к дьяволу и придем. Так и отец наш говорит. Готфрид подтверждает: – Да, так отец наш говорит. Да и сами мы так думаем. Домна Мария на то молвит: – Должно быть, ужасно жить с такими мыслями. Граф Риго криво усмехается. – Мы с рождения к этому привыкли. Тут вбегает малолетний паж и подает домне Марии цветок. Домна Мария целует пажа в губы. Все смеются. От смущения паж едва не лишается сознания. Пажу дозволяется остаться и слушать рассказы знатных сеньоров о дьяволе. Помолчав ровно столько, чтобы ожидание стало жгучим, эн Бертран неторопливо начинает: – Когда я был таким, как нынче этот паж, я своими глазами видел дьявола… * * *В трех часах езды на скорой лошадке от замка Борн стоит Далонское аббатство. Из поколения в поколение рыцари из обоих замков приносят аббатству щедрые дары, и неустанно возносят монахи мольбы за души сеньоров де Борн и де Аутафорт. Какое же облегчение испытал дядька Рено, когда Итье де Борн поручил ему доставить в Далон десятилетнего Бертрана, дабы тот получил в стенах аббатства надлежащее образование! Ибо с годами все злее и изобретательнее становились шутки старшего господского сынка, в то время как младший, подрастая вместе с кормилицыным ублюдком, названным без затей, Пейре, радовал кротостью и тихим нравом. Сдал Рено непривычно присмиревшего Бертрана аббату Рожьеру с рук на руки, неуклюже, но от души приложился к Далонским святыням, да и поехал прочь, в замок Борн, – наслаждаться тишиной и покоем. А Бертран остался в огромном монастыре, будто Иона во чреве кита. Монастырь, превосходящий размером замок Борн, обнесенный крепостной стеной с воротами, засел высоко на холме. Вниз по склону бесконечно сбегают поля. Часть из них возделывают монахи, прочие отданы «бородатым братьям», полумонахам из простонародья. Рослый, широкоплечий, огромный в облачении из грубого белого сукна, с откинутым за спину черным капюшоном, – широким шагом шагает аббат Рожьер. Издалека присматривается к новому воспитаннику – кто таков, с кем из родителей обличьем схож. Выходило так, что больше походил Бертран на отца своего Итье. А еще больше – на деда, Бертрана. Тощий долговязый подросток – за лето вытянулся, волосы до белизны выгорели – глядит на аббата: хоть и против солнца, а не щурится. Остановился аббат Рожьер в двух шагах, голову склонил. Осмотрел мальчика слева, осмотрел справа. Кликнул отца келаря и велел устроить молодого сеньора. Отец келарь взял Бертрана за руку мозолистой рукой – не рука, а клешня рачья – и потащил за собой, на ходу разъясняя смысл и назначение каждого строения за крепкой монастырской оградой: тут ризница, здесь книги хранятся, тут кладовые, вон там – зал заседаний капитула. Показал мальчику дортуары и школу, а после привел его в церковь и удалился. Темную базилику с тяжелыми стенами и узкими прорезями окон с южной стороны окружают семь капелл. Бертран обошел сперва все капеллы, а после остановился у стены, не решаясь ступить на середину базилики, и стал глядеть, как свет, ворвавшись в окна, острыми мечами сечет тьму, и как тьма, разорванная в клочья, отступает. В храме почти нет никаких украшений. Аббат из Клерво – Бернар – учит: «К чему все эти завитки и замысловатые фигуры? Довольно и солнечного луча…» * * *В ту пору в Далонском аббатстве, кроме Бертрана, обучались наукам еще четыре мальчика, из которых Бертран был дружен с Гильемом де Гурдоном, чьи владения располагались по соседству с Аутафортом. Что до Амбларта Талейрана, то с ним Бертран совсем не дружил, ибо этот Амбларт был трусоват и на догадки туг, зато весьма скор на обиды, чем бессовестно пользовался Бертран для собственного увеселения. А нужно сказать, что этот Амбларт был младшим братом того самого Талейрана, который впоследствии взял себе в жены Маэнц де Монтаньяк, поэтому в беседке рассказ эн Бертрана слушался с особенным вниманием. Домна Маэнц даже спросила: – Стало быть, Амбларт – он тоже видел дьявола? Пришлось эн Бертрану признать: да, не одному ему, Бертрану, это страшное испытание выпало. Однако же слушайте дальше, что случилось в монастыре. Ибо хоть и многие тогда увидели дьявола, храбрость проявили при том далеко не все – только Бернар из Клерво, человек святой и почтенный, аббат Рожьер и младший из воспитанников монастырских, то есть сам Бертран. Прочие же в страхе разбежались, и первым – эн Амбларт. Однако лучше излагать историю по порядку, дабы один эпизод нанизывался на другой, подобно тому, как насаживаются на вертел куски мяса, для улучшения вкуса перемежаемые луковицами и яблоками. Многому обучали в монастыре, о чем сейчас нет времени рассказывать. Брат Амьель, человек чрезвычайной учености (сейчас он возглавляет аббатство), обогатил память своих учеников повестями о чудесах и подвигах святого Бенедикта. Ибо кто заложил основы жизни монастырской, как не он? И чьи заветы неукоснительно выполняются в Далоне? Святого Бенедикта! Что есть монастырь? Монастырь есть школа Христова. Что слагает монастырь? Три вещи: община, устав и аббат. Община есть подражание иерусалимской общине, то есть Апостолам. Аббат представляет Иисуса Христа среди Апостолов. Устав же прикладывает Священное Писание к повседневной жизни. Что есть община без аббата? Тело без головы. Что есть аббат без общины? Голова без тела. Разделенные, они одинаково бесполезны, ибо мертвы. Что есть главный закон монастырской жизни? Любовь… (Тут граф Риго зевнул с таким лязгом, что домна Маэнц покосилась на него, будто опасаясь, не отхватил бы он ей ухо. Эн же Бертран, ничуть не смущаясь, продолжал.) Из всего сказанного выше можно установить, что воспитанникам прививался также вкус к благочестивой жизни. И до самого вечера, уподобляясь – в наилучшем смысле – жвачным животным, пережевывали они в мыслях вместе с монахами молитвы, священные тексты, либо полученные утром уроки. И вот однажды, упражняя память, размышлял Бертран над одним случаем из жизни святого Бенедикта. В ту пору возглавлял святой Бенедикт обитель, устроенную им весьма разумно и совершенно. И всякая вещь в обители была священна и приспособлена для полезной работы. Был в общине один простой монах, родом варвар, весьма преданный заветам настоятеля. Раз поручили ему вырубить сорный кустарник. Тот варвар взялся за дело с таким рвением (да и силищи в нем, видать, заключалось чрезмерно), что орудие его сломалось, и железный серп улетел в сторону, а в руке осталась одна лишь деревянная рукоять. Железо, как и сейчас, было весьма дорого. А серп, как на грех, попал в пруд и почти тотчас же ушел на дно. Заливаясь слезами, монах бежит к святому Бенедикту, рассказывает все, как было, и ждет кары. Тронутый его искренней печалью, святой Бенедикт берет деревянную рукоятку, направляется к пруду – и тотчас же железный серп выскакивает из воды и намертво прирастает к рукоятке. Святой Бенедикт вручает орудие растерянному варвару и говорит тому просто и кротко: «Ступай работать, дитя, и не унывай более». Чем больше раздумывал Бертран над этой историей, тем больше она делалась ему по душе. Он даже губы облизывал, а сам нет-нет, да поглядывал украдкой на Амбларта Талейрана. Однако замысел свой пока что таил. Случилось как-то нашалить Амбларту. Бертран – тут как тут – давай его еще и подзуживать, и в результате наказаны оба: приказал им аббат Рожьер выполнить кое-какую работу в саду. Бертрану вручил ножницы, а Амбларту – садовый нож на деревянной рукояти. И псалмы наизусть читать велел: десять раз по десяти псалмов (какие – указал по книге). Приступили к работе. Тут уж никто наверняка не скажет: случайно ли совпало, постарался ли кто-то заранее, только садовый нож у Амбларта сломался точнехонько у рукояти, и железная часть отлетела в густые заросли крапивы. Сперва Амбларт на рукоять глядел, после глазами по траве шарил, наконец на колени пал и руками водить вокруг себя начал. Бертран же подошел к нему и рукоять у него отнял. Сказал, что горю пособит и непременно железную часть отыщет. Только ему, Бертрану, нужно уединение, ибо желает он прежде трудов вознести молитвы. Амбларт Талейран – в слезы. А Бертран с рукоятью в сторону отошел, на колени опустился и молиться начал – вслух. Просил святого Бенедикта о помощи. Всю историю с чрезмерно радивым варваром пересказал – на тот случай, если Амбларт Талейран ее запамятовал. После же голую руку к зарослям крапивы поднес… и – о чудо! – железная часть ножа сама собой выскочила и к руке будто приросла. Вручил лезвие Бертран Амбларту и удалился неспешным шагом, оставив сотоварища размышлять о случившемся. Весть о чуде вскоре разнеслась по всему аббатству. Аббат Рожьер призвал к себе Бертрана, заперся с ним в зале капитула и принялся строго вопрошать об истории с садовым ножом. Бертран сперва отвечал, что молился святому Бенедикту, но после сознался в новой шалости и показал аббату вещь, которая и совершила чудо: то, что по-провансальски называется «Aziman«2. Этим словом трубадуры часто именуют своих возлюбленных, ибо тянет их к ним, точно железо к магниту. * * *– И что с вами сделал аббат? – спросил эн Готфрид с любопытством. Эн Бертран улыбнулся. – Простил. А что еще ему оставалось? Домна Гвискарда де Бельджок встретилась с эн Бертраном глазами. – А святой Бенедикт? Он простил вас за то, что вы приписали себе совершенное им чудо? Эн Бертран подивился тонкости, с какой домна Гвискарда поняла его рассказ. И учтиво отвечал этой прекрасной и деликатной даме, что действительно просил прощения у святого Бенедикта, однако святой не ответил ему. Домна Маэнц сердито перебила их разговор, потребовав, чтобы паж принес ей подогретого молока, ибо потянуло холодком. Паж нехотя ушел. Граф Риго сказал: – Вы обещали, эн Бертран, рассказать нам о том, как встречались с моим родственником, дьяволом. А вы вместо того тешите нас побасенками о своих детских шалостях, которые, если верить всему, что про вас говорят, с тех пор не слишком повзрослели. – Ваш родственник, граф Риго, – отвечал эн Бертран вполне серьезно, – отвратителен. Вот как это было. * * *Из приведенного выше рассказа явствует, что аббат Рожьер был человеком весьма мягким. Однако когда он встретился с врагом рода человеческого, можно сказать, лицом к лицу, то проявил себя отважным и стойким воином веры. Раз святые братья были пробужены страшным грохотом у ворот. Время было ночное, едва только отстояли всенощную и снова отошли ко сну, весьма краткому, ибо через три часа предстояло вновь вставать к заутрене. Запалили факелы и собрались, по указанию аббата, во внутреннем дворике, где в дневное время обыкновенно совершаются безмолвные прогулки по крытой галерее и где находится также великая монастырская драгоценность – колодезь. Воспитанники, которых также подняло с постели необычное оживление в монастыре, проникли во дворик и стали глазеть на происходящее. От ворот привели странного человека, судя по наружности – весьма низкого и даже подлого происхождения. Он находился в жалком состоянии, беспрерывно рыдал, волосы его были растрепаны и полны репьев. Завидев аббата, он бросился тому в ноги и стал умолять о помощи. По словам этого человека, господин его, богатый купец из Ауренга, внезапно сделался одержим бесами. Сейчас этот несчастный в доме у одного из «бородатых братьев», который по добросердечию приютил его на ночлег. Аббат Рожьер внимательно выслушал рассказ и велел доставить одержимого в монастырь. Слуга же сказал, что сделать это весьма непросто, ибо господин его вряд ли ступит на освященную землю по доброй воле. Тогда аббат Рожьер наказал связать купца из Ауренга по рукам и ногам и принести на носилках. Так и было сделано. Ночь уже уходила, серый свет разлился по небу. Монахи безмолвно стояли вокруг колодезя в монастырском дворе. Красные отблески от горящих факелов падали на их белые одежды. И вот на монастырский двор вступили шестеро «бородатых братьев» – крестьян, живущих на монастырских землях. Они несли бьющегося в путах человека, одетого действительно довольно богато. Аббат Рожьер велел поставить этого человека на ноги, однако от пут не освобождать. Это было сделано. Тогда несчастный вытаращил свои безумные белые глаза, а уста его, покрытые запекшейся пеной, принялись изрыгать страшнейшую хулу. Тут-то аббат Рожьер и вспомнил, что поблизости находятся порученные его надзору воспитанники. Однако выгонять их времени уже не было, надлежало действовать со всей решимостью. Не вступая с бесом в перебранку, аббат Рожьер безмолвно воззвал к Господу, а после вскрикнул: – Пошел вон! И с размаху ударил одержимого по лицу. От пощечины купец из Ауренга покачнулся и упал бы, не поддерживай его дюжие «бородатые братья». И тотчас же изо рта у одержимого выскочило огромное отвратительное существо. Оно-то и являлось родственником графа Риго, если уж граф так настаивает на этом родстве. Существо это было размером с кота. Вместо хвоста у него была змея, а на конце хвоста имелась еще одна голова, со свиным пятаком. Под хвостом же располагались срамные уста, которые источали страшный смрад и непрестанно изрыгали поносные речи. Существо было голым, будто бы без кожи, темно-красным, в гнойных нарывах… * * *В этом месте рассказа домна Маэнц допила принесенное пажом горячее молоко и воскликнула: – Иисусе милосердный! Домна же Гвискарда поднесла к лицу платок, будто закрываясь от отвратительного видения, вызванного рассказом эн Бертрана. Граф Риго наморщил лоб и сердито произнес: – И вы утверждаете, эн Бертран, что эта мерзкая тварь – мой родственник? – Вы сами это утверждаете, – учтиво отозвался эн Бертран. – Мой родич – дьявол, а вы описали какого-то дрянного мелкого беса, – сказал граф Риго. Вместо ответа эн Бертран пожал плечами. Домна Гвискарда попросила закончить рассказ, что эн Бертран охотно и исполнил. * * *Мерзость выскочила изо рта у одержимого и заметалась по двору. Лицо у купца было окровавлено, ибо губы его разорвались, когда бес пролезал наружу. Визжа и бранясь, бес бросился монахам под ноги. Но аббат Рожьер простер руку, и существо расточилось, наполнив воздух отвратительным зловонием. Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.1, 2, 3 |
|||||||||